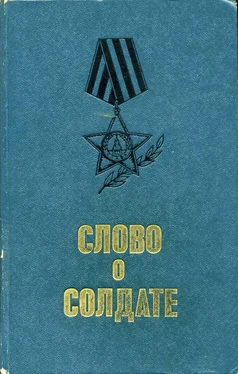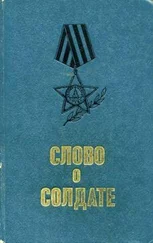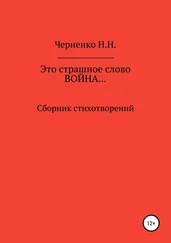После защиты он растерялся от поздравлений и позвал к себе слишком много гостей; негде было усадить их в маленькой комнатке, полной книг и пеленок. Гости рассматривали и хвалили сына...
Все это было ровно неделю назад. Да полно, было ли это?
Мертвое, взрытое снарядами поле лежало перед ним, земля, на которой был посеян и взошел хлеб, а потом сгорел и был развеян по ветру вместе с пороховым дымом, земля, на которой было сделано все, чтобы человек не мог на ней существовать.
По одну сторону этого куска земли лежали, спрятавшись за глинистыми буграми, гитлеровцы, пришедшие в чужую, далекую страну по приказу своего фюрера, уничтожающие, грабящие, сжигающие все на своем пути, живущие лишь сегодняшним днем, не желающие смотреть в глаза будущему, которое грозило им гибелью и позором. Их было много, не меньше взвода. Неподалеку от них, по эту сторону мертвого ржаного поля, лежал только один — кандидат филологических наук младший лейтенант Лев Никольский.
Он был окружен и по всем правилам войны, которую немцы вот уже более двух лет вели на континенте Европы, должен был положить оружие и сдаться в плен победителям. Но он не считал себя побежденным. Пулемет еще работал, а если бы он замолчал, в ход пошли бы винтовка и гранаты. Впрочем, он был не один. Двенадцать мертвых товарищей, которые еще вчера вместе с ним защищали этот голый кусок земли с одинокой березой, лежали вдоль траншеи. Тринадцатый был еще жив. Это был разведчик Петя Данилов, любимец всего полка, талантливый и умный парень, писавший стихи и читавший их вслух в самые горячие минуты боя.
Теперь он лежал, раненный в грудь навылет, и смотрел в небо, осеннее, но ясное, с редкими, освещенными снизу облаками. Береза вздрагивала от выстрелов, и желтые листья время от времени падали на раненого. Один лист упал Пете на лицо, но Петя не смахнул его, не пошевелился.
«Умер?» — оглянувшись и увидев это бледное спокойное лицо, на котором лежал желтый лист, подумал Никольский.
В одну из редких пауз тишины он подполз к Пете и, смахнув лист, взял его за руку.
— Ну как ты, а?
— Ничего, — чуть слышно ответил Петя, — дышать трудно. Послушай... — он помолчал, потом стал с трудом вынимать из кармана гимнастерки бумаги. — Тут мои стихи остались. Пошли их вместе с письмом, ладно?
Накануне он долго писал письмо, и Никольский знал, что он пишет девушке, которая часто приходила к нему, когда часть формировалась в Ленинграде.
— Ладно, пошлю. Пить хочешь?
Он поставил подле Пети кружку с водой и вернулся к пулемету.
Должно быть, не больше пяти минут он провел с Петей, а уж немцы, воспользовавшись тем, что пулемет замолчал, намного продвинулись к траншее. Никольский дал очередь, другую — они залегли. Потом снова стали приближаться, прячась между редкими пучками ржи, торчавшей в поле.
Плохо было то, что слева, метрах в двухстах от березы, стояло орудие. Правда, оно стреляло не по траншее, а в глубину, туда, где на горизонте были видны темные, еще дымящиеся развалины сгоревшей деревни. Но в любую минуту оно могло ударить и по траншее, которую защищало подразделение, состоящее из двенадцати убитых, одного серьезно раненого и одного живого. Эх, подобраться бы к этому орудию! И тропка была — вот там, где за выходами взрытой бурой земли начиналось болотце с высокой травой. Но нечего было и думать! Он понимал, что немцы захватят траншею, едва только замолчит пулемет.
Никольский невольно вернулся к этой мысли, когда начало темнеть. Солнце заходило, и, обернувшись, он увидел, как под легким ветром клонилась трава на зеленом болотце. Теперь тропка была почти не видна.
Ему показалось, что Петя зовет его. Он ответил шепотом:
— Что?
Петя молчал. Но прошло несколько минут, и слабый голос снова произнес что-то. Никольский прислушался, и в первый раз его сердце дрогнуло, и он крепко сжал зубы, глаза, все лицо, чтобы справиться с невольным волнением. Петя читал стихи. Он бредил, но голос был ясный, звонкий:
Есть улица в нашей столице,
Есть домик, и в домике том
Ты пятую ночь в огневице
Лежишь на одре роковом...
Петя читал, закрыв глаза, и каждое слово доносилось отчетливо и плавно.
— Петя, — взяв его за руку, тихо сказал Никольский.
Петя открыл глаза. Глаза были туманные, и одно мгновение Петя смотрел на Никольского, не узнавая.
— Что? — чуть слышно спросил он.
— Петенька, голубчик... Ты меня слышишь? Пулемет нельзя оставить, а то бы я к ним с тылу зашел. К тому орудию, понимаешь? А так все равно конец. Ты не можешь?..
Читать дальше