— Экстренное донесение в политотдел доставить нужно.
— А вот этого не хочешь? — злобно сказал Остап, вставая.
— Товарищ Чудь, прошу выдать лошадь, — официальным голосом проговорил Гуртопенко и хотел пройти в конюшню.
— Геть! Геть отсюда! — завопил Остап, закрывая собой двери. — Не имеешь права лошадей с их праздника снимать.
Гуртопенко отступил, страшась неистового блеска глаз Чудя.
— Не хочу я твоих лошадей тревожить, Остап, но срочное донесение в политотдел доставить нужно. Остап, не расстраивайся, — тревожно шептал Гуртопенко, — нужно же.
— Давай донесение, я сам доставлю, — сказал дрогнувшим голосом Остап.
— Вот это орел! — радостно оживился Гуртопенко. — Ты же в момент доскачешь.
— «Доскачешь»? — отшатнулся Остап. — «Доскачешь»!.. Да за кого же ты меня посчитал? Да как бы я после в глаза своим коням смотрел? Пёхом пойду.
— Невозможно, товарищ Чудь, грязь, топко…
— Ладно, не твое дело. Только ты, Гуртопенко, будь другом, побудь с конями. Всем заклинаю — побудь, никому не давай! Дашь — вот клянусь, побью! Ты знаешь, я горячий. Потом вот гнедая кобыла… Пойдем, покажу. Опросталась она недавно, а парнишка помер, так она тоскует. Утешь ее, поласкай, почеши за ухом, она любит это. Утешь… Да где тебе, грубый ты человек!
Остап шел, и тоска по брошенным коням грызла его сердце.
Единственная радость в его тяжелом пути была встреча со знакомой лошадью из колхоза.
Остап остановился, поговорил с возницей, оглядел стоптанные копыта лошади и, настрого приказав сделать спайки, пошел дальше, еще больше тоскуя.
Переходя возле станции Ерик, Остап оскользнулся на насыпи и рухнул в воду. В политотдел он пришел ночью.
Сдав пакет, он наспех выжал в сарае штаны, переобулся и пошел, не отдыхая, обратно.
Хотя начальник и предлагал подождать до утра, чтоб утром подбросить его на машине, но Остап говорил, что до утра ждать не может: нужно задавать корма коням по расписанию. Остап вернулся обратно с рассветом.
Гуртопенко спал, завернувшись в попону, и лицо его было счастливо.
Гнедая кобыла, терзаясь тоской о мертвом сыне, стонала.
Остап с отвращением перешагнул через распростертого Гуртопенко. Он подошел к гнедой кобыле, прижал ее голову к своей груди и, вытирая рукавом скупые лошадиные слезы, поцеловал ее в серые замшевые всхлипывающие ноздри.
1937


Каша
В тридцати километрах от города наступали банды Мамонтова. На оружейном заводе меньшевистские агитаторы уговаривали рабочих бросить работу. Они обещали белый пуховый хлеб от генерала Деникина.
Партийный комитет предложил нам разучить революционную пьесу, чтобы дать отпор контрреволюционным агитаторам.
Мы собрались в пустом хлебном ларьке, где помещалась ячейка. Мы спорили и горячились, рассыпая на колени крупную, как опилки, махорку.
Мы распределяли роли, и каждому хотелось играть главную.
Тряпичный язык светильника сосал последние капли касторки, чадя и потрескивая. А мы всё спорили и бунтовали.
И тогда встал наш председатель ячейки Федор Хрулев. Встал и выпачкал стену огромной тенью.
— Ребята! — сказал Федор Хрулев. — Вы здесь каждый за себя уже говорили, и нет конца нашим разговорам. А враг волком бродит в тридцати километрах. Скажу я как председатель нашего большевистского коллектива: комиссара будет играть Мотька Сизов за свою дисциплину и за своего отца, убитого на фронте офицером Сысморден, остальные — как распределены вначале. Суфлером буду я. А теперь, айдате все на Щегловскую засеку.
Небо вздрагивало от гула далекой канонады.
Нам хотелось есть. Уже четвертый месяц мы жили натощак.
В Щегловской засеке рыли окопы. Мотька Сизов, усевшись на бревна, прижимая к груди гармонь, играл любимый нами марш «Старые друзья». Изредка он прерывал игру, чтоб сунуть отмороженные руки под рубаху и отогреть их на голом животе.
— Ребята, — дрожащим, скорбным голосом просил Мотька, — дайте покопать, заиндевел я весь.
И кто-то торопливо и тихо уговаривал его:
— Нельзя, Моть, ты для энтузиазма поставлен, а ты— копать. Нельзя!
— Заиндевел, мочи нет.
И опять рыдающая гармонь выплакивала нехитрые звуки марша «Старые друзья».
К нам пришел полковник Вербицкий, сизый старикашка с лягушачьей, без подбородка, челюстью, надменный и важный. Потер ногу об ногу, снял галоши, поднялся на сцену и сказал голосом, в котором дребезжали негодование и обида:
Читать дальше
![Вадим Кожевников Это сильнее всего [Рассказы] обложка книги](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-cover.webp)



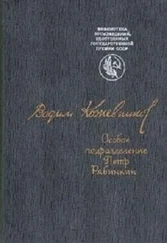



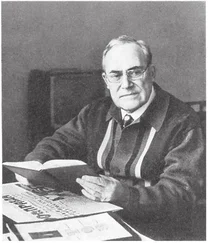


![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)
