Потом, припоминая этот момент, Шумов отметил, что треск прозвучал действительно внезапно, а не приблизился постепенно, и сделал вывод, что мотоциклист поджидал их, а не догонял...
Но в тот момент он лишь увидел обыкновенный немецкий армейский мотоцикл, который выскочил сзади и преградил дорогу экипажу, взметнув облако пыли, смешавшейся с бензиновой гарью. Степан натянул вожжи, сдерживая взволновавшихся лошадей, а бургомистр недовольно взмахнул рукой, отгоняя ненавистный ему машинный запах.
— Что такое? — спросил он по-немецки.
— Господин бургомистр!
Рыжий немец в пилотке и больших защитных очках опустил руку в карман кителя.
— Видите? — повернулся бургомистр к Шумову. — Ни минуты покоя... Ну что там у вас горит? — И снова перешел на немецкий: — Что вам угодно, господин офицер? Пакет?
Но это был не пакет.
— Кровь за кровь! Смерть предателям! — выкрикнул «немец», вытаскивая руку из кармана, и тотчас же загремели выстрелы.
Всего секунду или две Шумов видел вблизи лицо стрелявшего, но оно четко отпечаталось в его памяти неожиданной деталью — из-под рыжей шевелюры на лоб выбился клок темно-русых волос. Стрелявший был в парике. Однако раздумывать об этом было некогда — рука с пистолетом уже повернулась в его сторону, но, на счастье Шумова, задержалась: видимо, стрелок не был уверен, что ему нужно убить и этого в русской шинели неизвестного человека, и одна только пуля обожгла плечо Шумова, прежде чем он выпрыгнул и упал в пыль позади экипажа.
Потом мотоцикл взревел и исчез. Шумов сел, ощупывая раненую руку, и увидел, как, безумно вытаращив глаза, слазит с козел Степан, так и не воспользовавшийся своим автоматом. Вот он стал на землю и открыл лакированную дверцу, откуда просунулась и повисла над подножкой нога бургомистра в черном лакированном ботинке.
Шумов встал и подошел к экипажу:
— Раз-з-звяжите... раз-звя... — хрипел Барановский, стараясь дотянуться слабеющей рукой до галстука.
— Барин, барин! — бормотал Степан. — Да что ж это? Я-то теперь куда?
По дороге в госпиталь бургомистр умер. Шумова перевязали.
— Вы счастливчик, — сказал ему немецкий врач. — Дешево отделались.
В вестибюле госпиталя к Шумову подошел человек в штатском пиджаке и брюках-галифе, стянутых коричневыми крагами, похожий на дореволюционного авиатора.
— Попрошу следовать за мной. Я из полиции, — сказал он.
Шумов подчинился.
Так в действительности свершилась казнь бургомистра. Но, слушая девушку-экскурсовода, ежедневно повторявшую легенду сотням людей, Лаврентьев понял, что легенда обрела уже собственную жизнь, заняв место оставшихся неизвестными фактов, подменив их, как строгие елочки сменили запущенную растительность пряхинского сада. И Лаврентьев подумал, что легенда имеет, наверно, право на существование, потому что возникла не из желания исказить или приукрасить прошлое, а из естественного стремления объяснить торжество справедливости, возмездие фашистскому приспешнику целенаправленной деятельностью людей, руководимых человеком героическим, каким Шумов был и в его, Лаврентьева, глазах. Расходясь с фактом, легенда оставалась по сути достоверной и не обманывала тех, кто соприкасался здесь с правдой истории, а не с эпизодами жизни отдельных людей. Но сам Лаврентьев соприкоснулся с собственным живым прошлым, и к нему вернулось то ощущение грусти, которое возникло, когда он прочитал страницу из сценария, лежавшего на коленях у молодой актрисы. Он не пошел с группой в домик. Экскурсанты в меру шумливо проследовали мимо него, и на какое-то время стало тихо, пока к домику не подкатила Машина. Из нее вышли уже знакомые Лаврентьеву кинорежиссер Сергей Константинович, мужиковатый оператор Генрих и новый для него тощий человек с бородкой — автор Саша. Все трое остановились возле Лаврентьева, не замечая его, и принялись рассматривать домик.
— Снимать тут нечего, — сказал первым Генрих.
Он поднял руки перед глазами и вытянул ладони одну над другой, имитируя широкоэкранный кадр.
— Ничего интересного, даже если убрать все лишнее.
Генрих опустил руки.
— Что убрать? — спросил автор, которому как историку хотелось запечатлеть в картине хотя бы нечто полуподлинное.
— А вон те избушки!
Оператор показал на две четырнадцатиэтажные башни, возвышавшиеся над домиком Пряхина. Автор тоже поднял руки и посмотрел между ладонями, но у него вышло нарочито, не так небрежно и изящно, как у Генриха.
Читать дальше


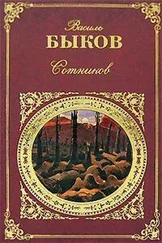
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/books/79887/vasil-bykov-podvig-1989-05-antologiya-thumb.webp)



