В гостиничном номере, выходящем окнами на восток, к вечеру стало не так знойно, душ работал нормально, у соседей было тихо — киношники еще не вернулись, — и можно было бы отдохнуть, вздремнуть после утомительной суматохи жаркого дня, но сон не шел, несмотря на усталость. Донимали мысли, от которых Лаврентьев оградить себя не мог, хотя и понимал, что к нынешней его жизни, давно миновавшей зенит, размышления эти ничего не прибавят уже и не убавят. Но в отличие от более счастливых людей, умеющих забывать то, что помнить тяжко, считавшийся уравновешенным и организованным Лаврентьев не был властен над своей памятью. Она преследовала его и во сне, и ему трудно было сосчитать, сколько раз ночью снова и снова поднимал он руку с тяжелым парабеллумом... Правда, выстрела не происходило — он лишь поднимал руку с пистолетом, и тут нервы не выдерживали и он просыпался. Только один раз выстрел был — бесшумный, как это часто видится во сне, но девушка начала падать, медленно валиться вперед, ее распущенные волосы будто парили над плечами, колыхались золотистым легким шелком... Это было лет через пять после войны. Он собирался жениться, и невеста так никогда и не узнала, почему он вдруг резко изменился и ушел из ее жизни.
Шумов же не снился ни разу, хотя в мыслях Лаврентьев обращался к нему часто. Он не имел ни права, ни оснований упрекать его, он знал, что Шумов поступал так, как должен был поступать. Он видел Шумова прежде всего человеком цельным и верным долгу, солдатом в том лучшем смысле, который вкладывают в это слово, когда обнажают голову у скромного обелиска. Он и выглядел как-то по-солдатски, старослужащим в глазах вдвое младшего Лаврентьева, хотя мог бы жить и сейчас. Разве мало людей доживает до семидесяти пяти?
Лаврентьев помнил, как вышли они в коридор. В памяти сохранились коренастая спина Шумова, и его широкий, с ранней сединой затылок, и неторопливая походка рядом с суетливым переводчиком.
— Так вот вы какой, господин унтерштурмфюрер... А я, признаться, представлял вас постарше, — сказал Шумов, когда они остались вдвоем.
Он еще говорил по-немецки, но с другой уже, совсем другой интонацией, и Лаврентьев сразу понял... Однако смог спросить жестко, «по-гестаповски»:
— Что это значит? С кем вы разговариваете?
— Я говорю с одним молодым человеком, — перешел на русский Шумов, — который однажды, когда ему было четырнадцать лет, упал с велосипеда и рассек правую бровь. Кажется, это было на Шаболовке...
Нет, это было не на Шаболовке, а на Большой Калужской. Они ехали с ребятами в Нескучный сад. Но это было. И Лаврентьев невольно поднял руку и прикоснулся пальцами к маленькому, почти незаметному шраму, на который смотрел Шумов.
А потом они разговаривали в машине Лаврентьева поздним вечером за городом, на берегу моря. Было очень темно, и моря не было видно, но оно дышало рядом, мягкий шум неторопливо накатывающихся на ровный песчаный берег волн доносился в машину...
Тут в памяти Лаврентьева произошло некоторое смещение во времени. Ему казалось, что разговор он начал с последней речи Гитлера, однако речь эта была произнесена позже, в начале ноября, а с Шумовым они встретились в октябре. Но помнил он так...
— Гитлер сказал: «Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело».
— Так и сказал? Личное дело? — усмехнулся Шумов. — Что ж... В общем-то верно. Это наше личное дело.
— Как бы я хотел быть в одном из этих домов! На фронте.
— А ты где, позволь? В санатории?
— Вы представляете, чем мне тут заниматься приходится? — спросил он тихо.
— Приблизительно.
— Вы видели, как набивают людьми душегубку?
— Нет.
— А я вижу постоянно. И пью коньяк с теми, кто этим занимается.
Потом он сожалел об этих словах. Ему казалось, что прозвучали они капризно, по-мальчишески и не могли убедить Шумова. Но тогда других слов не нашлось. Да разве и без них не было ясно, почему невыносимо дышать одним воздухом с убийцами, выполнять их распоряжения, смеяться их шуткам, петь песни на «товарищеских вечеринках», поздравлять с днем рождения, смотреть фотокарточки их жен и детей?!
Лаврентьев снял фуражку и не пригладил волосы. Во мраке Шумов угадывал лицо совсем молодого вихрастого паренька, вчерашнего школьника из интеллигентной семьи, мальчика из тех, кого приходится бросать в прорыв, когда становится безвыходно трудно, бросать полуобученными, без опыта на подвиг или на смерть, а чаще на то и другое вместе. Нет, он не оттолкнул Шумова чистоплюйством, как казалось потом Лаврентьеву. У Шумова сжалось сердце. Но что мог сделать Шумов? После провала подполья, после угрожающей встречи с Максимом, после ненужного убийства бургомистра и нелепейшею ареста, после всего, что произошло и так резко осложнило положение Шумова, от этого мальчика в душившем его щеголеватом мундире с эмблемами смерти зависела судьба не только Шумова, но его задания, всей операции... А Шумов, как правильно понял Лаврентьев, был человеком долга. Он не сразу ответил Лаврентьеву, он старался понять, что происходит с этим пареньком, — подошла ли критическая точка, за которой откроется второе дыхание, или это полная несовместимость, влекущая неизбежное и гибельное отторжение.
Читать дальше


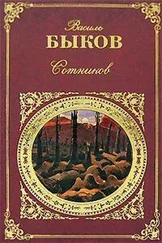
![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/books/79887/vasil-bykov-podvig-1989-05-antologiya-thumb.webp)



