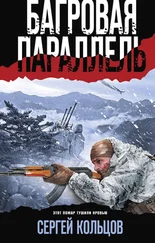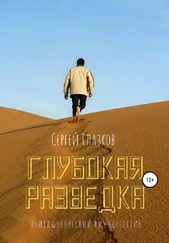— Так это дело рук, — догадавшись, о чем говорит Юлаев, согласился Двуреченский. — Белая байка для запасных портянок в вещмешке. Бритва имеется. Есть и иголка с ниткой: солдат без нее, что колодец без воды или жеребец без… Без чего, Щегольков!
— Без подков, товарищ старшина…
— Ну да, без подков. Как ты быстро об этом догадался? Самообразованием занимаешься? — хитровато подмигнул он Юлаеву. — Только вот загвоздка: чем написать эти чертовые три буквы, ума не приложу.
— С этим, пожалуй, выйдем, — дождавшись, пока закончит свою мысль Двуреченский, предложил Юлаев и показал обломок карандаша с красным стержнем. — Лейтенанту Черемушкину еще дома чинил. А этот огрызок остался у меня в кармане.
— Запасливый ты, Юлаев. Как в хозмаге — все у тебя есть, — улыбнувшись, произнес Двуреченский. — С каждого по нитке — глядишь и рубашка. Щеголяй — не скупись.
— Полотно слишком белое, — заметил Щегольков.
— Не нервируй по пустякам! — прервал его старшина. — В этих делах ты не достиг еще мудрейших. Учись, брат, учись. Каждый из нас должен научиться варить суп из топора. Что этим сказано: находчивость и терпение — всему голова. — Старшина уже вырезал нарукавные треугольники. — То, что они такие белые — не помеха. Тряхнем на них сухой землицы, погладим ладошкой — враз станут серо-белыми, нужной кондиции. Ну как?
— Уж вы и привираете, товарищ старшина! — завелся Щегольков. — Значит, терпение и находчивость. Согласен, все это так. А знания, опыт, смелость, без которых — не может получиться настоящий разведчик, вы отбрасываете в сторону? Да?
— Я тебе этого не говорил, — выводя букву на шевроне, посмеиваясь, сказал Двуреченский. — Только ты хитрущий, как тот дед Щукарь. Он выходил из любого положения. Даже рыбу в Дону ловил леской без крючка… Давай, Иван, а на Иванах вся Русь держится, прилажу тебе на рукав «пропуск». Нашивка — одна видимость, но марку держать надо. Конечно, с этим в гости к Власову не пожалуешь… Хотелось бы, ребята, посмотреть на этого генерала, но… сейчас, други, снимаемся. Пойдем по ельнику вдоль дороги. По ней укатили власовские недоделки. Притопаем, узнаем, что за объекты они охраняют, и — к железной дороге. Переднюем, дождемся темноты, перескочим — и дальше, к хутору Камышиха. Пусть ищут Васю лысого. — Он поднялся из окопа, вырытого явно немецкими солдатами, и, не выходя из густой тени, отбрасываемой кроной сосны, поднес к глазам бинокль.
Поляна неплохо просматривалась и невооруженным глазом, но линзы приближали дальние подступы и пространство между кучно стоявшими деревьями. Ничего настораживающего внимания не было. Небольшой железнодорожный состав, груженный крупно распиленными досками, подрагивая последней платформой, исчез за поворотом; второй миновал входную стрелку и медленно пятился по запасным путям к лесопильному заводику; третий стоял под парами у деревянной эстакады под погрузкой. Платформы грузили круглым лесом-тонкомером в огороженной колючей проволокой зоне, по углам которой стояли решетчатые вышки с пулеметами. Глухую тишину сек противный визг пилорамы. Там, суетливо подталкиваемые резкими гортанными выкриками, копошились пленные под охраной эсэсовцев. Центр поляны и ее оконечность, кроме южной, были безлюдны. Натянутая над ней маскировочная сеть, отбрасывая на землю квадратные, узорчатые тени, создавала иллюзию общего лесного массива.
— Пожалуй, самое время ретироваться, елки точеные! — пряча бинокль в складках куртки, сказал Двуреченский и, неторопливо, словно прогуливаясь, вошел в низкорослый редковатый ельник. Трое разведчиков пересекли дорогу. Здесь уже шел густой, нетронутый и необозримый во все стороны лес, сливающийся дымчатой каемкой с линией горизонта. Подошвы обуви, касаясь поверхности земли, мягко пружинили на толстой подушке зеленеющего мха, разнотравья и опавших листьев, поглощая шум шагов.
Чьи-то голоса первым услышал следующий вслед за старшиной Иван Щегольков. Разведчики залегли, вжимаясь в податливый мох и настил листьев. Затем по-пластунски стали передвигаться вперед, на звук русской речи.
— Это власовцы! Идут они чуть впереди нас, по тропе через ельник, в северном направлении. Их пятеро, а может, трое, — прошептал Щегольков, поворачивая голову к Двуреченскому и Юлаеву. — Укоротить бы им языки… Я бы этим жабам…
— Чтобы хорошо рассмотреть этих вояк, еще чуть вперед. И — ша… Замереть, никакой самодеятельности!
Первым показался на тропе коренастый, пышноволосый власовец. Забавно смотрелась на его покатом лбу косая челочка черных волос, придававшая ему несколько легкомысленный вид… Светло-коричневые глаза его равнодушно смотрели вокруг. Во всех движениях чувствовались бравада и уверенность. Пухлые розовеющие щеки и оттопыренная нижняя губа, что называется, греческий профиль, весь его собранный, опрятный вид вызывали у Егора Двуреченского еще не вполне осознанную ассоциацию, будоражащую память. Он смотрел на этого человека пристально, словно прожигая его насквозь сузившимися глазами, и не мог поверить самому себе, что видит знакомое лицо. Навязчивое видение привело его в оцепенение. Он, не веря своим глазам, мысленно чертыхнулся и закрыл их на мгновение. Но образ увиденного им человека еще четче вырисовывался в памяти. Поравнявшийся с засадой разведчиков парень, шедший во главе группы из трех власовцев, вооруженных советскими пистолетами-пулеметами Шпагина, пожалуй, не был двойником того, кого он знал давно, еще с детства. Двуреченский не замечал, не видел тех троих, которые шагали в цепочке за первым. Эти солдаты предателя генерала Власова, изменники, по которым давно плакала петля, сами по себе не представляли для него ни малейшего интереса. По существу, они не входили в его сознание и являлись как бы незначительными деталями картины, развернувшейся в пространстве. Не доверяя своей интуиции и застыв в напряжении, он ждал, еще не понимая чего именно, но уже уверенный в том, что один присущий только этому человеку штрих рассеет его сомнения.
Читать дальше
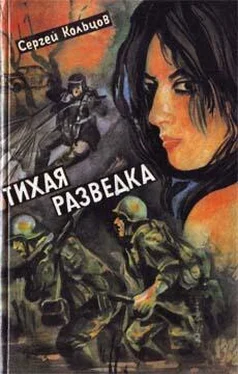


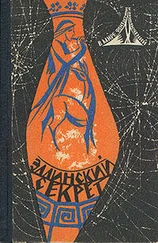

![Сергей Кольцов - Марш Хаоса [СИ]](/books/387818/sergej-kolcov-marsh-haosa-si-thumb.webp)
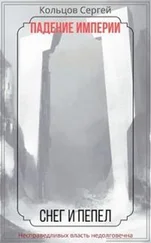

![Сергей Кольцов - Смутное время. Миротворец [СИ]](/books/430989/sergej-kolcov-smutnoe-vremya-mirotvorec-si-thumb.webp)