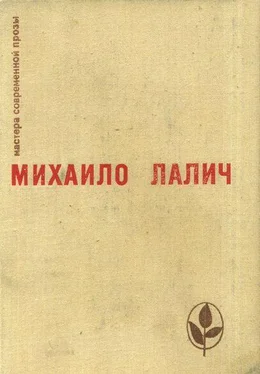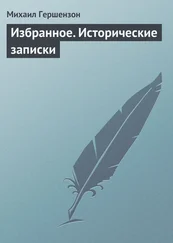Унтер отсчитывает сорок человек и задвигает за ними двери, остальные идут к следующему вагону. Внутри — ни соломы, ни скамьи, человеку не на что сесть. Потом дверь еще раз приотворяется, бросают сухой паек, и наступает тишина, будто пришел конец света.
— Фу-у-у! — выдавливает Рацо. — Все-таки вырвались из ада!
— Еще неизвестно, — говорит Шайо. — Я поверю в это, когда двинется состав, никак не раньше!
— Это было такое, что с ума можно сойти, — откликается Бабич.
— По тебе и мне незаметно, — глядя на него, улыбается Шумич.
— Неужели ты думаешь… — начинает Бабич и, потеряв мысль, спрашивает: — О чем бишь я?
— Думаю, что на свете куда больше сумасшедших, чем полагают, — говорит Шумич. — А ты устраивайся поближе к двери, чтоб не делать в вагоне лужу.
Бабич подползает к двери и жмурится.
— Это жертвище и связанные с ним вещи, требище или как там еще по-другому называется, я везде и повсюду искал, но оно запрятано где-то внутри. Что делать, если они его прячут, как кошка свое дерьмо?
— Какое жертвище, зачем тебе его искать? — спрашивает Шайо.
— Вроде печи для обжигания извести.
— Сельской или механической?
— Это неважно, — говорит Бабич, — потому что, по сути дела, это нечто вроде плахи, где из живых делают мертвых, из единицы — ноль. Главное, что это идет от древних народов. В жертву приносили детей Молоху, Астарте, Ваалу, чтобы детской кровью омолодить усталые божества. Делают это и сейчас: жертвуют детей, иногда и своих, и себя тоже, чтобы омолодить свое яловое, усталое божество: Человечество, в сущности, не заслуживает никакого уважения.
— Ты все эти дни так хорошо помалкивал, — с угрозой в голосе замечает Шумич.
— Приходилось! — говорит Бабич.
— Хорошо бы тебе и дальше держать язык за зубами.
— Что касается дальнейшего, то у меня особое мнение.
— Ну-ка, послушаем!
— Будущее, — Бабич вертит головой, морщит нос, словно унюхал что-то гадкое, — не так прекрасно, как это себе представляют одни. Издалека им кажется, что оно прекрасно. С таким же успехом можно сказать, как это и делают другие, что прекрасно прошлое. Но я в их россказни не верю, пока не убедят меня самого.
— Давай условимся… — начинает Шумич.
— Если дашь сигарету — можно!
— Дам, но с условием.
— Тогда пусть лучше останется статус-кво, — говорит Бабич.
— Дам тебе две, только помолчи, пока не тронется поезд.
— А потом могу пофилософствовать?
— Можешь, потом не будет слышно. — И он протягивает ему сигареты.
Бабич закуривает и умолкает. Затягивается, выпускает дым, гримасничает. Мне кажется, он делает это нарочно, чтоб на него не смотрели.
Поезд трогается без сигнала. Тихо скользит, словно крадется, набирая постепенно скорость. Я останавливаюсь у окна и смотрю, куда мы едем. У Сеняка поезд замедляет ход, колеблется, тормозит, спотыкается и наконец решительно поворачивает на юг. Видны Топчидер, его тополя, среди зелени кое-где проглядывают крыши. Это кажется невероятным, но нас действительно везут в Грецию. Туда, куда раньше водили наших невольников. Едем не останавливаясь, и это будит одновременно и надежду и страх — я не предполагал, как они зависят друг от друга. Чтобы утихомирить страх, приходится сначала обесценить надежду, это по крайней мере не так уж трудно. И я насмешливо себя спрашиваю: «Значит, ты ждешь, что тебя в Греции осчастливят…» Если там один лагерь, я разыщу Миню Билюрича; если он мне поверит, что я не виноват в том, что остался жив и попал в такую пеструю компанию, то мы сделаем какой-нибудь подкоп и вместе с другими пострадавшими от кораблекрушения, с погорельцами и пасынками нашей мачехи-отчизны и партии, нападем на немцев с тыла, так что им будет тошно…
Поезд катит из долины в долину, сквозь проложенные в кряжах туннели, на юг. Время от времени притормаживает, будто не торопится. У входов в туннели и выходов, вдоль полотна дороги тянутся поля, заросшие, словно терновником, проволочными заграждениями. Установленная спиралями и ежами проволока, пролежав две зимы, заржавела и теперь желтеет и краснеет, как папоротник осенью. Под ней растет ползучий репейник, пырей и чертополох. У мостов сереют, будто покрытые паршой, минные поля, бетонные бункеры с амбразурами и торчащими стволами пушек и наблюдательные пункты с оптическими приборами. Вначале я не задумываюсь над тем, что все это значит и для чего служит, мне только неприятно смотреть на это насильственное соединение геометрии и металла.
Читать дальше