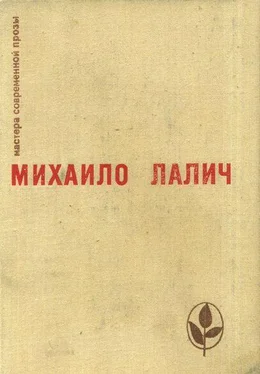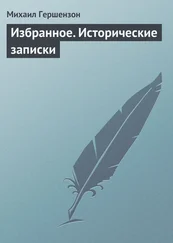— Ты болел падучей? — спрашивает его Черный.
Он качает головой.
— Наверно, что-то поел и отравился, — говорит Цицмил.
— Не поел, а отравился от того, что смотрел, — спокойно и рассудительно замечает Бабич.
— Думаешь, от смотрения? — спрашивает Шайо.
— Знаю по опыту.
— А почему ты не отравился?
— Разве этого мало? — И Бабич поворачивается к нам спиной и удаляется.
— Возвращается к нему порой разум, — говорит Шайо, — правда, долго его не мучит.
Насмотрелся Липовшек на подобное предостаточно, и раньше были поводы отравиться глядючи. Поначалу его из Марибора со словенскими семьями выслали в Сербию. Он поступил в Сербскую стражу Недича [22] Недич, Милан — военный министр королевской Югославии, возглавивший созданное немецкими оккупантами в августе 1941 г. правительство Сербии.
, раскаялся, убежал и попал в войско Дражи. Но и там вдоволь нагляделся на мучения и насилия. Таскали его с Главным штабом в качестве радиста, и так он оказался в Черногории. И вдруг его заподозрили, что он, используя штабную рацию, передает сведения партизанам. Когда его привели к нам в камеру смертников — это был сплошной синяк, совсем обезумевший от допросов.
С газона несутся душераздирающие вопли. Голос мне знаком, или похож на знакомый некогда голос. Какое-то мгновение мне кажется, что он, приглушенный отзвуками, издевается над самим собой; мелькает мысль, что кто-то из голых или цирюльников попал в котел с дезинфекцией или в печь бани. Голос сердито вопит, защищается, жалуется, скулит, умоляет и клянется, что больше никогда не будет. Потом внезапно меняется тембр, и я могу поклясться, что кричит уже не человек — в голосе нет ничего человеческого, это пронзительный, поднимающийся к небу визг паровой пилы.
Шумича передергивает.
— Это кого-то бьют, — говорит он.
— Палочных дел мастера, — замечает Видо. — Сначала отобрали у него дубинку.
— Разве их тоже бьют?.. Пошли поглядим! — предлагает Шумич.
— Успокойся и не глупи, — останавливает его Шайо. — Чего там смотреть?
— А что? Таких я не жалею! Хочу поглядеть и понаслаждаться. Кого они жалели?
— Здесь бьют не тех, кто для нас плох, — говорит Шайо.
— То, что его бьют, не доказывает, что он хорош, — возражает Шумич.
— Наверно, нарушил инструкцию…
— Бить безжалостно… И при каждом пятом ударе касаться собственной лодыжки и уже оттуда замахиваться. Иначе можно ловчить и не забивать насмерть.
Кто-то подал команду «шапки долой». Стоим с непокрытыми головами, и не только мы, голые, и скелеты на газоне, и боснийские старики с ребятами, захваченные в убежищах, но и лагерная аристократия, начиная с палочных дел мастеров и ремесленников с начищенными ботинками и напомаженными волосами. Ждем минуту, другую, третью, однако ничего не происходит. Должен явиться кто-то из лагерных громовержцев, но, видимо, опаздывает, слышен рев мотора. Вспорхнули воробьи. На нас насмешливо смотрит сорока. А громовержец все еще не показывается. Мне и страшно и смешно, и я вижу в этом символику: мы стоим с непокрытыми головами и ждем, когда появится Великое Ничто и гаркнет… Не появилось, не гаркнуло. Не знаем, к худу это или к горшей беде. Где-то кто-то приказал надеть шапки.
— Знает ли кто, перед кем мы ломаем шапки? — спрашивает Шумич.
— Перед комендантом, — отвечает Шайск — Немец, что ли?
— Кто ж другой? Уехал куда-то в город.
— А я его и не видел!
— Ты хотел бы, чтоб он к тебе перед уходом являлся?.. Может, никогда и не увидишь, и к лучшему для нас, однако инструкция гласит: как только стоящие у ворот заметят его входящим или выходящим, следует подать команду: «Шапки долой!»
— Как невидимому богу в небесах?
— Как богу, — подтверждает Шайо.
— Назло больше не сниму шапки!
— Рехнулся? Хочешь, чтобы тебя били из-за такой глупой пустяковины.
— Может, и рехнулся, но снимать шапки больше не стану. — Чтоб доказать это, Шумич рвет свою новую шапку и бросает клочья в мусорный ящик. Черный, Рацо, Видо и Шайо суют шапки в карман. Бабич потерял свою еще в селе Беран, после залпа, когда пули четников просвистели у него над головой. Я свою, в целях самозащиты, оставил, чтоб меня не узнал Миланче, и все равно выхожу из павильона только в крайнем случае, предпочитаю оставаться в мрачных коридорах со стариками, сетующими на обобравших их до нитки албанцев. Чтобы как-то развлечься, я считаю еврейские имена, написанные на стенах и досках, и пытаюсь расположить их по алфавиту: Алкалай, Алмули, Амар, Арон, Барух, Бейосиф, Бени, Вениамин, Босковиц… Некоторые ставили год рождения и смерти, некоторые писали улицу, где жили, но большинство — только имена. Знаю, что они мертвы, и те и другие, но что-то переворачивается в моей душе или моем сознании: не оттого, что мертвы, обидно, что они живые мучались в ожидании смерти и видели, как мучаются другие.
Читать дальше