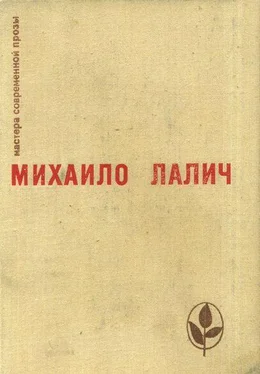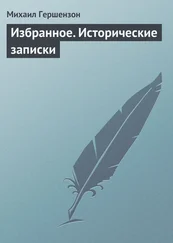Вот и отправились мы с Бранко заранее в несогласии: я полагал, идем напрасно, а Бранко надеялся, что Митар уступит, едва его увидит. Нужна была тайна, чтоб люди не разнюхали и разговоры не пошли, потому идем мы от куста к кусту, вверх-вниз, порвали обужу, все заплатки отвалились, пока после многих мучений не вынырнули мы из зарослей как раз под окнами Зубанича. Прикидываем: человек в годах, нет у него нужды самому с хозяйством мытариться, наверняка привык поспать после обеда, а уж со сна охоч к разговору, когда настроение легкое. Нацелились мы самую пору улучить; видим, во дворе сыро, лужицы в ямках и капли воды уменьшаются на глазах, исчезают с раскаленных плиток. Чувствуется, люди только что тут сидели, покуривая скадарский табачок. Стало быть, гости побывали и недавно ушли — в тени под грушей запах кофе, ракии и жженого сахара. Вдыхаю я его, облизываюсь с завистью — кому-то, видно, суждено благоухать ароматами, которые остаются неизменными, независимо от перемен, что готовятся и происходят в мире. Запахи потухли, и свет солнца стремительно померк, когда дверь отворилась и оттуда выглянула голова старой Стакны. Сплошь из костей, лишь прозрачная кожа поверх, сама — в зимнем шушуне до пят, накрепко затянутом, чтоб кости не рассыпались. А голова кажется непомерно большой под двумя черными шалями: одна стягивает кости черепа вдоль, другая — лоб и первую шаль впоперек. Стоит Стакна, глянула на нас из пещер под бровями, смерила взглядом сверху донизу и зычно фыркнула, словно изгоняя из нас запах, который ей не по вкусу. Должно быть, узнала — она и сейчас узнаёт любого, пусть в жизни ни разу не видела: по дядьям, теткам и прабабкам, потому что каждый человек должен чем-нибудь походить на кого-то, кто ей встречался, — но прикинулась, будто не узнаёт, сощурилась.
— Зачем пришли?
— Митара ищем, — изъяснился Бранко как можно мягче.
— Знаю, не меня, а Митара, — на что он вам?
— Поговорить надо. Дома он?
— Нету дома, а если б и был — не пущу я в дом всякую погань. Говори, кто ты есть!
Сник Бранко, бормочет:
— Да я Бранко, Иванов я, да мы…
— Уходи, — сказала Стакна и, словно саблей, рубанула воздух костистой рукой.
— Надо нам с ним увидеться, — сказал Бранко.
— Нет, не надо! Уходи от моего дома, коли говорю!
— Сурово ты так со мной, тетенька…
— Чтоб тебя черти из преисподней остригли, я у тебя тетенькой никогда не бывала! И надо ж таких послать, неужто никого не нашлось получше носатых Бердичей?.. Вы только гляньте на себя, какие вы побродяги, да еще с ружьями явились! Вам только и переменять мир лиходейством да писаниной да Митару угрожать.
— Врут на нас, — сказал Бранко.
— Твой нос врет, и этот вот, что с тобой, — Мирунин сын.
— Мы Митару не угрожали, — сказал Бранко.
— Знать, мы сами написали те письма, — съязвила она.
— Какие письма?
— Те, что вы нам под порог сунули. Вам только и учить, кто предатель и кто оккупант и куда надобно дальше идти!.. Набрались звучных слов, чтоб народ обмануть, будто в самом деле ученые головы да герои, а глянь — всего-то Бранко, Кривачев сын, да Манойло, сын Мируны из-под Гряды, где самый дикий народ только и живет, а тоже лезут людей уму-разуму учить!.. Горе черное, а не красное, голые, голодные — кто виноват, что у вас нет ничего, что вы сирые и убогие и такими всегда будете? Никто иной, кроме вас самих, — раз не хотите работать и не умеете беречь, раз норовите готовенькое взять и только делите накопленное другими. Не позволю я делить. — Размахивая руками, она наступала на Бранко. — И это Кривачев сын наперед вылезает и шумит о справедливости! Господи милостивый, до чего дожить довелось — собственными глазами видеть, как он по Котураче кривую Дрину выпрямляет и попову службу справляет и хозяйничает там, куда его никто не звал!.. Лучше бы он отцу своему кривую его ногу исправил или б вторую сломал, чтоб сравнялись они, чем требовать того, что равным никогда не было и быть не может. Он выгоняет оккупанта, он вводит справедливость — вытянул свою длинную шею, ружьище наставил, шапку с клювом напялил, клюв на самый лоб напустил, чтоб далеко видать было, какой он, тронутый придурок и поганый кровопиец, наружу вылез…
Зрачки сверкают у нее по краям движущейся дыры под крюком носа, согнутого к земле, над крюком подбородка, устремленного к небу. Язык язвит. Верхняя шаль, та, что держит лобовые кости, чтоб не разошлись, распустилась, растрепалась, шаль под нею разматывается, вздымается и топорщится — почудилось, будто раскрываются какие-то новые запасные дырки со зрачками, чертями и ядовитыми языками. Ошалел Бранко — не знает, что делать. Всегда-то он с бабами впросак попадает, а тут перед ним не баба, сущая ведьма. Смотрит он на нее в ужасе, мигает оторопело — не помогают ему ни марксизм, ни дарвинизм, все пало в забвение. Кулак ко рту поднял — я подумал, будто грызет луковицу, ведь лук верное средство от ведьм, а он — ногти. Другую руку запустил под рубаху и все глубже сует под мышку, словно согревает, и притом мелко-мелко перескакивает с ноги на ногу, будто на угольях. Растерялся, оторопел. Я-то знаю, что бы я сделал: убежал куда глаза глядят, только ему это не годится. Неловко ему убегать, а не может молча сносить, что она его эдак честит. Перепугался я, как бы рука его, другая, которую он под мышку не сунул, не вырвалась да не схватила ее за горло и не задушила. А Стакне и в голову не приходит, что пора б испугаться, — наоборот, шипит, словно того хочет и словно бы ей почему-то не терпится, чтоб ее поскорей задушили. Остановилась на миг дух перевести, я воспользовался случаем.
Читать дальше