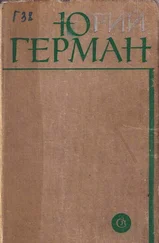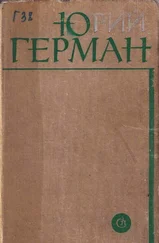Все это фриц рассказывал мне, стоя в моей каюте у двери и часто моргая рыжими ресницами. Он был альбинос, с веснушками по всему лицу, с золотыми зубами. Его увели и, как пишут в газетах, заключили под стражу, а мы стали ждать того времени, когда следовало отправлять шлюпки за группой капитана Родионова (мы должны были принять на борт наших людей). Мы решили, что до рассвета у нас времени еще будет достаточно, скрытность операции мы пока, как видно, ничем не нарушили, родионовская группа может дать нам ценные сведения, и уж тогда мы начнем выполнять то, что нам надлежало выполнить.
Помню, захотелось мне пить, а у себя в графине я воды не нашел и отправился в кают-компанию, где у нас был нынче госпиталь, или пункт первой помощи. Пока шел по трапу и по коридорчику, совсем забыл о перемене декорации и очень удивился, как в нашей привычной кают-компании все изменилось. Все белое, покрыто простынями, везде понаставлены стерилизаторы, инструменты разложены, лубки, носилки стоят, и Лева в халате и в белой шапочке дремлет.
— А, — говорю, — как, доктор, дела?
— Да ничего. Все нормально. Спать хочется.
— Ничего, — говорю, — хочется и перехочется. Фрица видали?
— Ну его, — отвечает, — к черту. Как там Татырбек наш?
— Нормально, чего ему сделается.
Лева эдак немного от меня отвернулся, встал вполуоборот и вздохнул.
— Что за вздохи, — спрашиваю, — доктор? Сон привиделся нехороший?
Он отвечает, не глядя на меня:
— Нет, не сон. А знаете, товарищ комдив, думаю я, что он живым не вернется. Вот так мне кажется.
— Да почему? Почему?
— Думаю я так.
— Но ведь вы, — говорю, — многоуважаемый, почему-то так думаете?
Он молчит.
— Что же, сказать не хотите?
— Да нет, отчего же… Ом мне, товарищ комдив, как-то объявил, что если ему доведется проявить себя на особом задании, то он жизнь свою отдаст и при этом не сморгнет даже. Потому что, говорит, его жизнь принадлежит не ему, а той семье, которая его вырастила и сделала из него человека. Он мне всегда это говорил. Он мне всегда говорил, что он пастух-сирота, баранов нас и грамоты не знал и не узнал бы никогда, если бы не Советская власть. Он мне, товарищ комдив, всегда говорил, что я интеллигент и потому полностью не могу его понять. Его в детстве ужасно как били, у него там бараны как-то пропали, так его били несколько дней, и он не мог ходить совсем и все, знаете, лежал. У него ведь два ребра сломано тогда. И кушать ему никто не приносил, ни одна душа о нем не подумала. А теперь он офицер, у него есть жена, будут дети, он читает книги, его никто никогда не ударит больше, и если он будет хорошо служить и учиться, то из него, может быть, адмирал выйдет. Ведь может это быть?
— Конечно, может.
— Вот. И это очень, товарищ кавторанг, его взволновало как-то. Он мне тогда сказал: «Лева, а я через тридцать лет, может быть, контр-адмиралом буду. И захождение мне будут играть. Лева, а ведь я пастух, и я за нее даже кровь не проливал».
— За кого, за нее?
— Да за семью. Ведь он, знаете, как рассуждает всегда? Он, когда своему артиллеристу выговаривает за провинность, он всегда говорит: так в семье не делают. Так раб может сделать, слуга, а ты в семью взят, ты в семье свой человек, Погубить семью хочешь, да? Но вы знаете, товарищ комдив, все это у него так получается, что каждому его слову веришь. Мы с ним очень дружны, очень, и он со мною, как с самим собою, говорит, не стесняется, И его бывает интересно слушать. Он как-то журнал читал какой-то, а потом говорит: не согласен. Что не согласен? Оказывается, он не согласен с каким-то рассказом, где описываются наши в ту войну. Он говорит: читаешь и думаешь — почему они тогда немца не побили, если так у них все хорошо было. А потому, Лева дорогой, не побили, что Советской власти ни было. Советское государство немца бьет, вот кто. Ни одно государство в мире этого бы не сделало, А мы делаем. Вот на этой-то семье, товарищ комдив, он и разворачивается сейчас. Он все говорит, что семья с ним мучилась, в темные его мозги алгебру с космографией вкладывала, а он никак и ничем еще семье по помог, И это он, дескать, всегда о том думает, что как случай будет, так он семье и поможет. Потому я и беспокоюсь.
Я промолчал.
Что я мог сказать Леве?
Попил у него воды и пошел на мостик.
Шлюпки за группой Родионова мы отправили, и темная ночь с бусом — так поморы зовут мелкий дождь — и туман нам много помогли. Сняли мы народ хорошо, спокойно, ловко, никакого переполоха не произведя. Но людей оказалось куда меньше, чем мы предполагали, очень многие погибли, Это ведь ужасно трудная — военная работа, даже, пожалуй, грудное, чем работа подводников. Сам капитан Родионов был был изрядно плох, даже соображал неважно, издергались они до последнего продела, который только можно себе представить. И раны их очень мучили. Лекпом с ними был, так его в бою убили. Ну, а свои ми средствами много ли налечишься? Да все лето комары, покоя никакого, ни единой секунды, совершенно жили, как звери, и, естественно, облик человеческий потеряли. Да к тому же немцы охотились за ними, как за зверями, охотились с собаками, выслеживали и обкладывали, точно медведя или лося. А они мало того что отбивались, они в ранах, больные, порою в сорокаградусном жару свое дело делали, работали ежедневно, всегда. Это особые люди. И потому мы их на корабле особенным образом приняли. Для них душ был, и одежда чистая, новая, и папиросы хорошие, и коньяк, и прочая роскошь. Но когда мы их встретили, то поняли, что они сами уже даже и вымыться толком не могут, до того они были изглоданы своей жизнью, а нервная анергии, на которой они держались, их покинула теперь, потому что они были у нас хоть и не в безопасности, ни уже сами за себя не отвечали, а могли только повиноваться, ни проявляя никакой инициативы, которая, по их словам, им совершенно опротивела.
Читать дальше
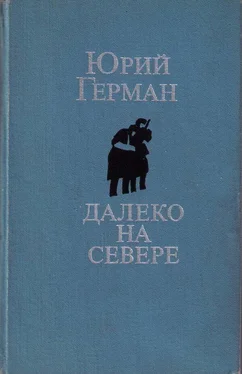
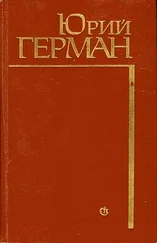


![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)