— Дай и мне почитать! — попросил я ротного.
Ведь я уже видел это стоически-отрицательное выражение пудановского лица и поэтому именно в эти минуты меня терзало страшное любопытство… Но майор Пуданов тоже «упёрся рогом в землю» и ни в какую не дал мне прочитать именно то, с чем он только что трижды ознакомился…
— Нет! — отрезал он посуровевшим тоном, пряча свою книжку во внутренний карман.
— Ну, вот!.. Тебе жена наверное специально подобрала такую книжку, чтобы там всё было хреново написано!.. И ты тогда весь выход просидел бы как пенёк на базе…
Мои несколько злорадостные слова явились очень уж благотворным бальзамом на мою же настрадавшуюся душу… Как той кошке отыгрались Мышкины слёзки… Так и близ сидящему командованию теперь предстояло понести заслуженную ответственность за свои начальствующие замашки… Да хотя бы за вчерашний двойной перевод стрелок в мою сторону… А то ещё и решат, что это именно я один принял решение об отказе в поддержке начальника разведки бригады в его намерении захватить средь бела дня духовский блокпост…
— Ну… Что? — продолжал допытываться я. — Идёте или как?
— Не знаю… — ответил ротный, пребывая в, естественно, глубочайшем раздумье. — Надо бы…
Тут мне пришлось намекнуть на добрые старые времена:
— А вы знаете, что в Великую Отечественную войну некоторых командиров расстреляли за недостаточную боевую активность?
Сейчас, конечно, настали уже другие времена… И, стало быть, поменялись и нравы… Но, на мой совершенно непредвзятый взгляд, командир разведгруппы спецназа должен и обязан находиться в постоянном поиске врага! Чтобы пребывать в хорошей боевой форме… И соответственно не превращаться в дряблую и расплывшуюся массу… Бойцов, разумеется, надо беречь, но лишь от огнестрельных ранений, минно-взрывных травм и ещё от ушибов, растяжений, вывихов с колото-резанными последствиями боевых выходов… А не от геморроя при постоянном нахождении в одном и том же месте базирования…
Сегодня был уже пятый день нашего «похода». А промежуточное подведение итогов не впечатляло… В первый день мы совершили марш и обустроились в палатке. На второй — совершили доразведку местности и выставили засаду на переправе. В третий — провели рекогносцировку в южном направлении и подготовились к сопровождению колонны. В четвёртый день в качестве боевого охранения «Центрподвоза» проехались до входа в Аргунское ущелье и обратно… Налёт на Атаги нам запретили и теперь мы должны были действовать дальше по «вновь утверждённому плану»…
В настоящий момент моя группа чистила оружие, разместившись на тех же ящиках, на которых бойцы спали ночью. Глядя на них, я думал о своём… Конечно же о командирском… А Иваныч о тяжкой доле командира роты… а как же иначе…
— Ну, ладно… — негромко сказал я и поморщился, как от зубной боли. — Раз тебе нельзя… Пойдём мы… На эту же переправу…
Принятое только что решение далось мне с заметным трудом… И дело было не в очередности… Просто выставлять засаду на одном и том же месте считалось не вполне правильным результатом командирских раздумий… Ведь не зря в разведке есть некоторые правила:
— По одному человеку никогда и никуда не ходить!
— По одному и тому же маршруту тоже не ходить!
— И на одном и том же месте засаду не выставлять!..
В принципе-то первое правило мы практически не нарушали, так как передвигались мы все далеко не поодиночке. И маршруты выдвижения можно было слегка подкорректировать, чтобы соблюсти данное требование Инструкции… А вот с третьим постулатом возникало очень сильная головная боль… Выставлять засаду на прежнем месте было, скажем так, нежелательно.
Всё это сейчас осознавал и командир нашего разведотряда:
— Может быть выставим засаду где-нибудь в другом месте?
— А где? — переспросил я, привычно доставая свою топокарту. — На переправе мы уже были, на юг в горы ездили, на запад вчера с колонной мотались… На восток что ли?! Так там Шали… И совершенно голые поля. И кроме того, там всегда тихо.
Майор Пуданов пересел поближе и тоже заглянул в топографическую карту. Несколько минут мы блуждали по местным окрестностям независимо друг от друга.
— А если вот здесь? — предложил Иваныч, ткнув щепочкой в карту. — Где мы вчера с пехотной колонной распрощались.
— И что тут можно сделать?
— Тут конечно голые поля вокруг и только асфальтовая дорога. — продолжал ротный. — Но зато рядышком вход в Аргунское ущелье. Откуда они могут шастать по ночам.
Читать дальше
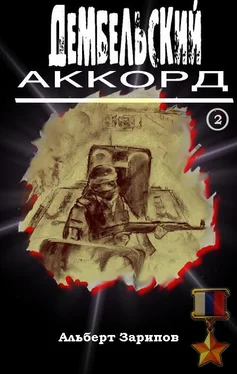




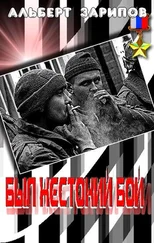
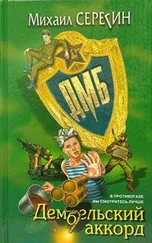
Однако, считаю, что автор излагает свои воспоминания, пропущенные через призму своего отношения к окружающим и личных оценок молодого старшего лейтенанта - командира разведгруппы специального назначения.
Много деталей не соответствующих действительности. Например, описание сопровождения колонны и последующей за этим гибели начальника разведки 166-й бригады не является достоверным. Каким образом разведотряд СпН был привлечен к сопровождению колонны, на каком основании привлечён и в связи с чем погиб майор - НР 166-й бригады, его радист и как капитан - помощник начальника НР получил множественные осколочные ранения от взорвавшегося выстрела из подствольного гранотомета, попавшего ему в разгрузку, описано совершенно не так как было на самом деле.
Думается, правды ради, можно сказать, что и роль начальника ОРО отряда Стаса Харина и его участие в мероприятиях с моей точки зрения сильно принижена. В том числе и в засаде на дороге, где "забили" водовозку с чеченским милиционером. Действия Стаса и все происходящее там я видел собственными глазами, хотя в книге это отрицается. Кстати, "броню" тогда мы оставили в поле, а не на блокпосту. Она была постоянно на связи и могла в любой момент подскочить к месту засады.
Радисты-разведчики в ходе выполнения задания входят в состав РГСпН и соответствующие документы оформляются в оперативном деле. Но автор считает, что за радистов командир группы не отвечает. Что в корне не правильно с любой стороны.
Несколько раз упоминается, что капитан Скрехин приносил и озвучивал расшифрованные радиограммы от Центра, хотя для этого ему бы необходимо было иметь шифроблокнот на выдаче как минимум, который однако штатно на задание получает как правило командир РГСпН. На практике капитан Скрехин мог, в отдельно взятом случае, так же получить шифроблокнот и взять на себя шифровку и расшифровку всего радиообмена разведотряда с Центром, если бы он подольше прослужил в 173-м и чувствовал себя посвободнее. А он прибыл на новое место службы только за несколько дней убытия на "боевые" в составе РОСпН. Кроме того содержание разведданных при шифровке все равно бы определялось в радиограмме командиром разведотряда СпН, а не капитаном Скрехиным.
Это не исчерпывающий список того, что не согласуется с моей памятью, а значит вполне вероятно, что и с памятью других участников описанного. Что можно списать наверное на давность и на то, что человеческая память у всех работает по разному.
Но в целом, повторюсь, для посторонних людей книга верно воспроизводит некоторые особенности работы подразделения спецназначения ГРУ во время первой чеченской войны.