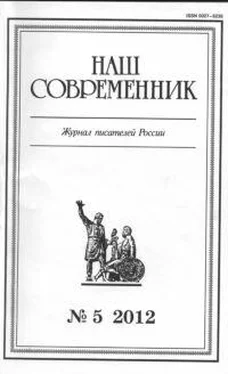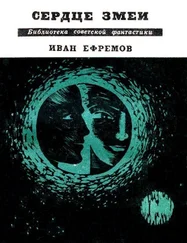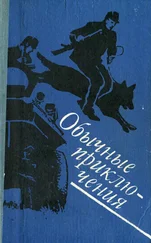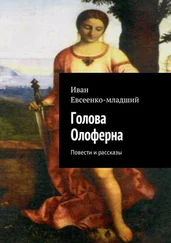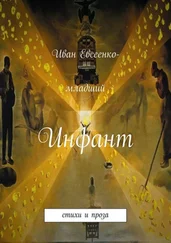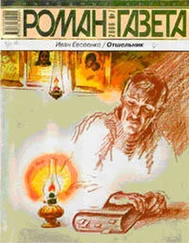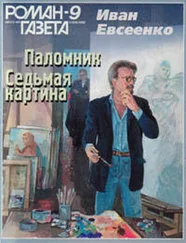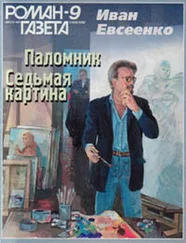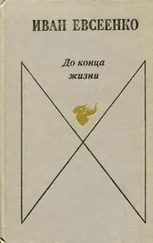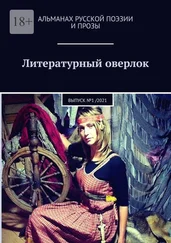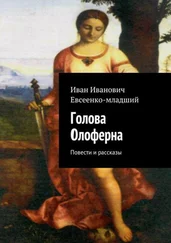Чем больше Виктор взрослел, тем все больше становилось ему совестно перед отцом, что не уберег он его такие теплые и непромокаемые в любую погоду, почти новенькие еще сапоги. Лучше бы отец ушел в них на фронт, может быть, и уцелел бы, остался жив.
Дед Витя наливал отдельную, особую рюмочку и молча выпивал ее на помин детской своей обутой в отцовский сапог ноги, о которой думал в эти мгновения, как о совершенно живом существе…
* * *
В полевом армейском госпитале Витька пролежал три недели, пока тот не снялся и не ушел вслед за наступающими нашими войсками. Из окошка ему хорошо был виден колхозный двор и бревенчатая конюшня, в которую заперли немецких военнопленных. Их было, наверное, сотни полторы, обшарпанных, злобно-угрюмых, потерявших свой прежний бравый и наглый вид, с которым два года тому назад входили в село.
Рано поутру конвоиры выпускали пленных из конюшни в обнесенный изгородью лошадиный загон. Они брели к стоявшему посередине загона колодцу с водопойной колодой-корытом, кое-как умывались там и брились, жадно пили мутную, взбаламученную воду (иногда прямо из корыта), потом всем скопом подходили к ограде и, прося есть, кричали хором и поодиночке проходившим по улице деревенским жителям:
— Эссен! Эссен!
Голодный их, одичавший рев был слышен по всему селу, и сердобольные женщины, не в силах переносить его, нет-нет да и подсылали к загородке мальчишек и девчонок с ломтем-другим хлеба или с ведерком сваренной в мундирах картошки.
Немцы жадно, впопыхах ели, запивая хлеб и картошку все той же мутной с ворсинками-стебельками зеленого колодезного мха водой. А поев и ополоснув возле колодца ведерко, возвращали его мальчишкам и девчонкам и тоже хором, словно по команде, говорили:
— Данке шён!
А иногда дарили им зажигалки и губные гармошки, показывали фотографии, на которых были изображены их жены и дети.
— Майн фрау, майн киндер! — произносили они охрипшими голосами, тыча себя в грудь.
Раз в два дня приезжала на колхозное подворье полевая солдатская кухня, и повар-красноармеец в окружении все тех же неусыпных мальчишек и девчонок варил для военнопленных кашу из пшеницы или ячменя.
Ребята, часто проведывавшие Витьку в госпитале, приносили ему в настоящем солдатском котелке, который одалживали у повара, наваристой ячменно-пшеничной каши, и она почему-то казалась ему гораздо вкуснее той, что варили для раненых бойцов в госпитале.
Пленные немцы вели себя вроде бы смирно и послушно, ничем не противореча красноармейцам-охранникам. И, похоже, усыпили их бдительность. Однажды, выбрав глухую дождливую ночь, трое военнопленных вылезли из конюшни через соломенную крышу, перепрыгнули через жердяную изгородь и стали уходить в болотистый ольшаник, который начинался сразу за колхозным подворьем. Но далеко не ушли. Охранники все-таки обнаружили их, бросились в погоню и застрелили всех троих из автоматов на самой опушке ольшаника.
Похоронили немцев там же, на краю болотца. Из военнопленных была выделена специальная похоронная команда, пять или шесть человек. Под присмотром красноармейцев они вырыли три отдельных, не очень глубоких могилы (грунт был топкий и вязкий, сразу проступающий болотной водой), положили туда застреленных, прикрыли шинелями и забросали землей. С позволения конвоиров похоронщики сладили три березовых креста, написали на них химическим карандашом имена убитых и воткнули те кресты в надмогильные насыпи.
Никто из взрослых сельских жителей смотреть на немецкие похороны не ходил. Свидетелями были одни лишь мальчишки. Молчаливой настороженной стайкой они стояли далеко в стороне, смотрели, как расчетливо, сменяя друг друга через равные промежутки времени, работают пленные немцы и как тоже угрюмо молчат наши красноармейцы.
Никто из серпиловцев не заглядывал к немецким могилам и после похорон, не косил поблизости от них болотную траву осоку и камыш, не рубил в ольшанике жердей. Мальчишки тоже обходили это место стороной: рано по весне, в первые майские дни, не рвали сладкую съедобную траву — аир, а в самый разгар лета не собирали ягоду-ежевику, которой на опушке ольшаника было видимо-невидимо. Никакого запрета ни на косьбу, ни на порубку жердей, ни на сбор аира и ежевики никто вроде бы не устанавливал — запрет образовался как-то сам собой, и немецкое это трехмогильное кладбище все больше и больше отчуждалось и от жизни серпиловцев, и от их песчаной, не больно плодородной земли.
Читать дальше