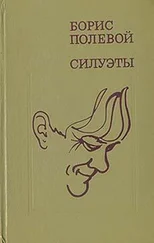Положила она его на землю, держит голову на коленях, видит, никакая помощь ему не нужна, а он просит. «Поцелуйте, — просит, — меня, сестрица, потому как, — говорит, — молодой я, меня ещё ни одна девушка не целовала и обидно мне без этого помирать». Поцеловала его Мария, а уж губы у него холодные.
Ну, что-то он там ещё ей шепчет, сказать хочет. Она ухом к самым губам его наклонилась и слышит: «Передайте ребятам моим, коли кто жив остался, чтобы не забывали, — говорит, — и вы меня не забывайте», — говорит.
И слова эти лейтенантовы, видать, глубоко ей в душу запали: «Как мне страшно или тяжело станет, — говорила она нам, — вспоминаю я, — говорит, — того самого морячка, младшего лейтенанта по званию, и его последние слова».
Завийхвост помолчал, отвернулся, поковырял ногтем замёрзший песок окопного бруствера, пощурился на острый ветер, шумно вздохнул и продолжал:
— Из Одессы она на последнем пароходе уехала, когда последние носилки с ранеными с берега отнесли. Из Севастополя её и вовсе на подводной лодке увозили… Сама раненая, а всё раненых подбирала до последнего часа. Потом попала она в нашу казачью часть и с нами вот прошла от Керчи аж до самого этого Прикарпатья. И всё время с казаками — и в бою, и на досуге. Только дважды от нас и отлучалась, когда её самоё ранило, и то оба раза до срока из лазарета к нам уходила.
И так наши казачишки к ней, к Марии-то, привыкли, что, ну, просто и сказать нельзя. Бывало, бой, грохот, артиллерия гвоздит, самолёты бомбят, пули хлыщут, все к земле-матушке льнут, а она выскочит из окопа да по земле — ловко, как ящерка. Оглянуться не успеешь, а она уже обратно ползёт, раненого тащит.
Ворчали на неё казачки, которые постарше: «Куда лезешь? Разве можно так судьбу-то дразнить?» А она, знай, смеётся: «Я заговорённая. Меня, — говорит, — осколок облетает и пуля не берёт. Вот как».
Завийхвост помолчал и вдруг, резко повернувшись к соседу, не выпускавшему трубки изо рта, попросил:
— Дай табачку.
— Да ты ж не куришь, дядько Завийхвост, — пробасил тот и неохотно полез в карман за кисетом.
— Не куришь, не куришь, табаку жалко стало, зажаднел, — заворчал Завийхвост, неумело свёртывая дрожащими пальцами неуклюжую большую цыгарку.
Цыгарка тряслась у него в руке, и он долго не мог раскурить её от трубки, морщась и кашляя. Наконец раскурил, поперхнулся дымом и стал продолжать свой рассказ новым, глухим, срывающимся голосом:
— А ведь, ей-богу, точно и взаправду знала она какое слово: будто и впрямь пуля её сторонилась и осколок облетал. До самого до последнего дня.
Воевали мы тут, вот в этих самых местах, в Польше, значит. И бои тут с осени были большие, упорные. Раз пять в этот день мы в атаку поднимались, и раз пять захлёбывалась к чертям наша атака, такой был огонь.
У немцев тут каждая былиночка, можно сказать, пристреляна, а место-то, видите, ровное. На пять вёрст жука на земле заметишь. И вот как отбили немцы пятую нашу атаку, казачок вот этот самый, — Завийхвост указал на смуглого чернобрового казака, внимательно слушавшего рассказ, — так вот этот самый хлопец и упал у немцев на самом виду, в распроклятой этой нейтральной полосе, в аккурат между нами и немцами — по самой серединке.
Лежит ничком, и, как артиллерия смолкнет, слышно нам, как он стонет. А как его там достанешь, когда тут пули свищут и осколки шипят, — словом, светопреставление! А Мария наша тут как тут, точно её позвали. Видим, быстро так пробежала по траншее и вдруг прыг на бруствер. Да! И ползёт. Сам командир батальона, товарищ майор, кричит ей: «Куда? Назад, назад!» Она будто и не слышит, дальше, дальше. Вот видим, она уж возле раненого, подползла, закопошилась…
— А я тем часом с белым светом прощался, — приятным тенором заговорил пригожий казак и покраснел, как девушка, до самых тёмных бровей. — Кто мне поможет, когда разрывы по земле, как бешеный табун, мечутся? И вдруг, чую, кто-то на мне рубашку разорвал, рану освободил, холодком её обдуло… Думаю, бред это, помираю, холодеть начал. Дай, думаю, последний раз на белый свет гляну. Открыл глаза — Мария! «Больно? — спрашивает. — Потерпи, — говорит, — дружок, сейчас полегчает».
А немец уже заметил её и — по ней, и — по ней. Осколки жужжат, как жуки весной над тополем. Молю её: «Да бросьте меня, за ради бога, сестрица, ползите назад, мне всё равно пропадать, хоть вы уцелеете…» Она перевязывает, а сама головой качает: нехорошо, дескать, земляк, говоришь. Обидел, вишь, её. «Держись, — говорит, — за шею крепче». — И стала потихоньку ползти к своим. Метров десяти не сделала, как вдруг, чую, вздрогнула, остановилась, потом вовсе легла и меня на землю сложила. И вижу, кровь у неё на гимнастёрке расплывается. И бледная она, как рубашка, и шепчет: «Умираю, — говорит, — казак, прощай, будешь жив — передай казакам, чтоб не забывали». А сама поникла, как та берёзка, и стихла.
Читать дальше