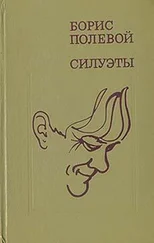Ну, агитацию тут разводить некогда, немцы-то вот они. Сбежали ребята к реке да по реке, по ракитнику, по ракитнику из посёлка и в степь. Идут они, и точно им в душу кто плюнул. Человек этот у них в мозгу гвоздём сидит: неужели в хорошем рудничном стаде не без паршивой овцы? И главное, все они его до самого последнего дня уважали, портреты его на демонстрации носили, новатором он у них слыл. И опять же орден, да какой! Ну, тут вспомнили, понятно, такое обстоятельство: в партию он не шёл. Ему рудничные коммунисты не раз намекали — дескать, не пора ли: наша гордость, знатный человек. А он всё отговаривался: дескать, рано, вот заслужу чем-ничем, подам. Ну, тут, конечно, сразу и пришло это всем на ум.
Короче говоря, когда подпольная организация меня на тот рудник направляла, говорят мне: «Этого Олексия Кущевого опасайся. Этот самый Олексий, как нам доложили, с немцами уже снюхался».
Ну, ладно, слушайте дальше. Пришёл я, значит, на этот самый рудник — да не шахтёром, конечно, а чеботарем. У меня батька когда-то, в годы безработицы, чеботарством кормился, да и сам я в молодости, пока на рудник не определился, этим делом в Днепропетровске маленько занимался. Кое-что смекал. А тут у меня всё чин-чином: и паспорт с немецким штампом, и днепропетровская прописка, и справка от тамошней комендатуры, ну, инструментишко кое-какой и борода. Не бог весть, правда, какая, короткая и рыжая, как медвежий хвост, однако борода. Немцев-то я не очень опасался, шляповаты они на этот счёт, им главное — бумага, а раз в бумаге сказано: их человек, — стало быть, живи. Боялся я, как бы на кого из знакомых не наскочить. Борода-то, она, конечно, человека меняет, однако в Криворожье был я не из последних. И о рекордах моих писывали, и портрет мой по газетам ходил, словом, знал народ.
Однако и это обошлось. Помаленьку обосновался. Из бумаге этакий гусарский сапог вырезал, на стекло наклеил, цену беру дешёвую, чеботарю. Хвалиться не стану, заказчик ко мне пошёл. Ну, разговоры, то сё, узнаю, что и как, к людям присматриваюсь, вижу — ничего, то есть это у нас ничего, а у немцев плохо. Другие-то рудники в Криворожье все порваны, так они всей силой на этот навалились. Вывеску огромную набили: «Акционерное общество „Восток“». Восстанавливают, деньжищи в него валят. А дело-то ни тпру, ни ну. Ну, там электростанцию, подъёмку они быстро наладили. Где-то в другом месте, видать, украли, привезли, смонтировали — и пошло. А руда-то — нет, руда им не даётся. Почему? А вот слушайте. Коренной-то наш рударь весь загодя от немцев ушёл. С семьями на Урал все эвакуировались. Иные в армию подались. Остались кто: старичьё, пенсионеры, кто за хибарку свою, за усадьбишку держались. Ну, немцы за них принялись. Сперва-то врач один, хороший, видно, человек был, всё освобождения давал по болезням. Но врача этого немцы быстро расшифровали и расстреляли беднягу. Стариков всех на рудник под конвоем. «Какую прежде профессию имел?» Те в один голос: «Никакой, чернорабочий: поднять да бросить». И волынят, дела не делают и от дела не бегают. Много с ними этот самый господин шеф Иоганн Эберт канители имел. Он к ним и с посулом, и с угрозой, и с пайком, и с палкой — не идёт дело. Расстрелял даже некоторых, и это не помогло. Держатся старички. «Нас, — говорят, — смертью не пугай, мы своё прожили».
Я к тому времени уже людей хороших нащупал, кое-кому открылся. Среди старичков тех две бригадки организовал для подпольной работы. Через них со всем рудником в связь вошёл, с липки своей не подымаясь. И вот докладывают мне бригадиры: из всех коренных здешних работает с немцами один Олексий. С первого дня, как немцы пришли, говорят, оделся почище и — к их шефу. Так, мол, и так, гражданин такой-то, хочу, дескать, лойяльно сотрудничать с немецкой администрацией. Те, понятно, рады, обеими руками в него вцепились. Сперва-то он в бригадирах у них ходил, потом, слышь, старшим по подземным работам сделали. Ну, думаю, погоди, друг милой, тебя советская власть куда вознесла, а ты ей так платишь? И вот предлагают мне мои подпольные бригадиры того самого Олексия убрать. «Что ж, — говорю, — дело святое: паука убить — сорок грехов простится. Убирайте, но чтоб тихо».
И ведь, скажи ты, не убрали, не смогли: осторожный. Только и ходит с рудника домой, из дома на рудник, вот и весь путь. И то днём. А дома у него офицеры немецкие стояли. Внешняя охрана. Не выходит. Ладно, думаю, погодим, сколько верёвочку ни вить, а концу быть, допрыгаешься. А тем временем работа у немцев быстрей пошла. Почему? А вот почему. В наших-то рударях отчаявшись, пригнали они на рудник военнопленных. Они с ними поступали как? В лагере до смерти доведут, человек уж ноги не волочит, тогда к нему: хочешь работать — кормить станем. Ну, некоторые, понятно, и соглашались. В могилу-то кому охота самому лезть! А тут ещё думка: а ну, улучу минутку, сбегу или что ещё. И хорошие ребята прибыли, я с ними сразу связался. Лихие, подавай им взрывчатку, хоть сейчас весь рудник к небу. Я и средь них тройку подпольных бригадок организовал, по бригадке-пятёрочке на барак. Сижу и этак-то, значит, у себя на липке гвоздишки в подмётку загоняю, тихо-смирно, а помощники мои и на руднике, и в бараках военнопленных, и в посёлке. Информация ко мне течёт — то там то тут машинишки загораются, склады вспыхивают, состав там с откоса летит, и всё шито-крыто.
Читать дальше