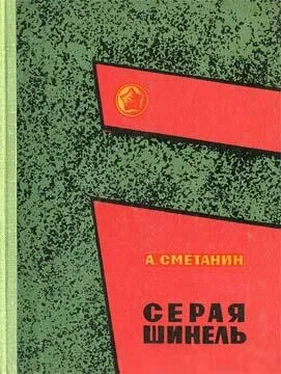— Врет он, твой Свиридов. А если и работал, то ресторан его ни разу план не выполнял.
— Свиридов тут не при чем, — вмешивается в разговор Журавлев. — Продукты такие отпускают. Что ты еще из этой «шрапнели» сделаешь?
— Верно, ничего не сделаешь, — соглашается и Галямов. — Ничего, пойдем наступление, лошадка убьет, я вам опять жаркое сделаю. Хочешь, Серега, жаркое?
— Хочу.
— Можно к вам, второе отделение? — слышится за плащ-палаткой знакомый голос Полины.
Тятькин подхватывается с места, приподнимает обледенелую плащ-палатку, заменяющую нам дверь.
— Входи, Полина, входи. — Голос ефрейтора непонятно почему дрожит.
Полина входит, здоровается с нами, оглядывает каждого поочередно. Со времени смерти Петра мы не видели ее. Мне кажется, она похудела, а та застывшая в глазах боль, которую я видел тогда в траншее, так и не исчезла.
Она садится на нары, снимает шапку, расстегивает полушубок. Уставившись взглядом на огонь в печурке, спрашивает:
— Как вы тут, мальчики?
— Ничего, хорошо, — отвечает за всех Тятькин. — Поужинай с нами, Полина.
— Спасибо. Я сыта. Вот чаю попью.
Она открывает санитарную сумку, достает пакетик с сахаром.
— Делите на всех. Напьемся досыта сладкого чая перед наступлением.
— Спасибо, дочка. — Вдовин берет кулек, смотрит на сахар, опять заворачивает его, протягивает девушке. — Ты уж пей сама или с Серегой на пару, а мы табачком побалуемся.
— Нет, Вдовин, нет. Галямыч, высыпь его весь в котелок и размешай.
С приходом Полины в землянке все притихли. И это понятно: мы невольно вспомнили Ипатова.
Завтра бой, нас кого-то обязательно либо убьет, либо ранит, без этого боев не бывает, но, наверное, никто сейчас не думает о себе, а только лишь о Пете Ипатове, который так и не отметил день своего рождения там, во втором эшелоне.
Галямов — нештатный кашевар отделения — разливает чай. Кому в котелок, кому в крышку от него, а Полине в кружку, предложенную Чапигой.
Странно, но сегодня никто не слышал, чтобы Степан сказал хоть слово. «Вот кружка тебе, Полина» — это были первые, услышанные нами за день.
Молча пьем чай, хрустим сухарями. Не знаю, как кому, а мне нравится горячий сладкий чай с ржаными сухарями, размоченными в нем.
Полина допивает чай, вытирает кружку кусочком бинта, отдает ее Чапиге и присаживается ко мне.
— Все чумазые, хуже трубочистов, а ты, Сергей, грязнее всех. Дай-ка я протру тебе лицо водкой.
— Спасибо, не надо. Так теплее…
— Вот чудной. Да тебя такого грязного девчата любить не будут.
— Их здесь все равно нет.
— А я? — печально улыбается Полина.
Ведь она пошутила. Но кто бы знал, какой занозой воткнулась в сердце ее шутка! Даже самому себе я боюсь признаться, что с самой первой встречи тайно люблю Полину.
— Не упрямься, сядь вот сюда. Я чистеньким тебя сделаю, Сережа. Ты у нас красивый мальчик.
— Оставь его, Полина, — вмешивается Тимофей. — Да и к чему добро переводить. Пожертвуй эту водку мне на благое дело.
— Не могу, Тимофей. Она для раненых на завтра.
— Эх, кабы меня ранило…
— Фу, глупый. — Полина сердито отворачивается от Тимофея. — Иван Николаевич, а что, если я останусь у вас ночевать?
— Рады будем, Полинушка. — Журавлев благодарно смотрит на девушку: значит, и после смерти Петра она по-прежнему любит нас всех, считает своими лучшими друзьями. Это хорошо. Очень хорошо.
— Выбирай себе место, — Иван Николаевич оглядывает нары. — Ложись в серединку, ногами к печке. Как раз рядом с Кочериным и будешь.
— Только не с ним! Говорила же: он самый чумазый.
Но ложится она все-таки со мной, пристроив санитарную сумку вместо подушки. Впервые за свои семнадцать лет жизни я ложусь спать рядом с девушкой. Да еще с какой! Самой красивой из всех, что я видел на своем веку.
Полина лежит на боку, накрывшись полушубком. Ее лицо рядом с моим. Глаза девушки закрыты, и я могу смотреть на нее столько, сколько хочу. Дверца печки не закрыта, землянка полна бледно-оранжевого света от жарко тлеющих березовых углей, по которым резво бегают фиолетовые и синие огоньки.
От такого света лицо Полины видится мне румяным-румяным. У нее очень черные прямые брови из мягких, словно колонковых, волосков, чуть вздернутый нос, красиво очерченные припухлые губы, с едва заметным темным пушком над верхней.
Поцеловать бы эти губы. Тихонько-тихонько. На самую малость. Так, чтобы она и не услышала.
А на лбу у Полины едва заметные родинки. Одна, две, вот третья…
Читать дальше