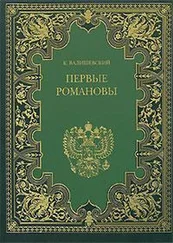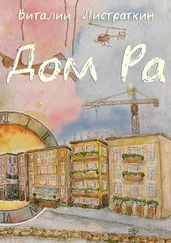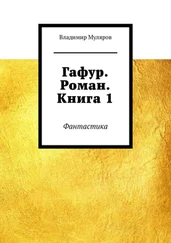Шакиров умолк. Он лежал и с тихим бешенством ждал слов утешения. О эти лживые слова! Говорит, есть святая ложь, ложь во имя благородных целей. Чепуха! Ложь — всегда ложь. Ну же… Чего молчите? Ибрагим… Катя!
— Я даже знаю, что у вас вертится на языке. Ты, Ибрагим-ака, приготовил вот что: «Мужайся, йигит, мы ещё с тобой до Берлина дойдём!» (Ибрагим вздрогнул — Рустам будто прочитал его мысли)… А ты, Катяджан, наверняка приготовила душеспасительную тираду насчёт бессмертия великой любви, что-нибудь вроде: «Рустам, бесстрашный воин! Ты искалечен, но любовь твоя по-прежнему прекрасна».
Раненый умолк. Он ждал возражений, увещеваний, призывов взять себя в руки. Но он слышал лишь тяжёлое дыхание Ибрагима. А Кати вроде и вовсе не было в палате. Может, она потихоньку вышла?
Он помолчал ещё немного, открыл было рот, узнать насчёт Кати, как вдруг услышал её всхлипывание, а затем — её голос:
— Дурак!.. Глупец, — голос Кати дрожал от обиды я злости. — Как смеешь ты глумиться над своей любовью?! Над Мухаббат! Нет тебе прощения!..
Шум удаляющихся шагов — и вновь тишина. Рустам лежал растерянный, оскорблённый, пристыженный. Сперва он подумал, что Ибрагим тоже ушёл, и испугался… Нет. Ибрагим здесь, его дыхание здесь! Рустам смущённо кашлянул.
— Ибрагимджан, прости.
— Я — что? Ты у неё прощения попроси.
— У Кати?
— У Мухаббат.
— Прости меня, Мухаббат, прости, если можешь.
Он умолк, поражённый. Перед ним возникла Мухаббат. Он ясно видел прекраснее её лицо, её печальные глаза. И он услышал её голос: «Я не сержусь на тебя, Рустамджан. Не сержусь…»
Видение исчезло. Задыхаясь от стыда и счастья, Рустам пролепетал:
— Ибра-агим… Лучшие слова у-утешения, которые я когда-либо слышал, — это то, что сказала только что Катя.
— Верно.
— Поблагодари её за эти слова.
— Хоп, сделаю.
— Спасибо. А сейчас иди, я немного устал.
Он остался один, и вновь ему казалось, что мир исчез и он сам растворился, растаял. Приходили врачи, Тоня. Они говорили ему что-то, чем-то поили, делали уколы. Однако Рустам никак на это не реагировал. Он жил и не жил, слышал и не слышал, всё происходило не с ним, a с кем-то таинственным — бесплотным, воплощённым лишь в мятущуюся мысль — бредовую, фантастическую, нелепую и беспощадную.
Топи пожелала ему покойной ночи, и он понял: наступает ночь. Ночь наступает где-то там, неизвестно где. Но всё равно хорошо, что она наступает. На ночь все люди умирают. Семь-восемь часов смерти, а затем снова жизнь. Просыпаясь, люди радуются солнцу, свету, цвету. А у него теперь всегда — ночь. Так пусть же эта ночь, «покойная ночь», как сказала Тоня, положит конец нелепости существования «я».
И вновь Рустам увидел Мухаббат. Она взволнованно говорила ему что-то. Он не слышал, но всё понимал. Она утешала его. Она жертвовала собой. Не надо, не надо жертвы!.. Ничего не надо.
Медсанбат вымер. Тишина. Надо уйти в неё, раствориться…
Где окно?.. Тоня сказала — напротив койки. Что значит — напротив? Бессмысленное слово. Просто нужно сползти с койки и искать, искать…
Рустам осторожно опустил руку. Ага — пол! Впрочем, это раньше называлось полом. Теперь это пол, стена, потолок… Кусая губы, чтобы не закричать от нестерпимой боли, он перевернулся на живот и скользнул (вниз, вверх — теперь эти понятия потеряли смысл), ударился искалеченной ногой, чуть не взвыл, но нашёл в себе силы задушить звериный рёв, рвавшийся из горла, — и потерял сознание.
Очнувшись, он с горечью понял; жуть существования «я» продолжается. Тогда он, напрягая остатки сил, пополз, холодный пот струился по спине, но он всё полз.
Ползла нестерпимая боль, облитая холодным потом… Он коснулся руками чего-то твёрдого (пола, потолка, стены?), пополз, то и дело касаясь этого, и наконец нащупал выступ. Изнемогая от усталости и боли, потянулся, нащупал нечто… Ага! Оконное стекло! Провёл по нему чугунными пальцами, нашёл, за что ухватиться… Боль выла, рычала, рвалась наружу… И вот он уже стоит. Теперь надо выбить то, что называется окном, и кинуться навстречу успокоению…
Сейчас… Вот так… Он качнулся, боль вспыхнула в мозгу пронзительным пламенем, и он захлебнулся в ней, расплавился.
Тоня услышала звон разбитого стекла. Потёрла заспанные глаза, прислушалась. Тишина. Лишь из палаты в конце коридора доносилось протяжное, печальное причитание:
— Рука моя-а-а… Рука-ааа…
Там лежал боец со свежеампутированной кистью, бывший скрипач. Тихий интеллигентный еврей. Настолько интеллигентный, что он даже постеснялся сказать хирургу, делавшему ему ампутацию, что он — скрипач. Он сказал об этом только после операции, и хирург лежит теперь в своём закутке мертвецки пьяный.
Читать дальше