Митя только сейчас почувствовал, что взмок от напряжения. Он закурил и стал дрожащими пальцами пересчитывать бумажки. Оказалось: сто пятьдесят афгани, причем две бумажки были склеены липучкой, а одна вообще оказалась иранской. Митя, чертыхаясь, побрел в штаб.
Козлов с Генкой ерзали ложками по дну котелка с супом. «Ну как?» — с набитым ртом спросил Генка. Митя ему все рассказал. Генка так прыснул, что изо рта полетели непрожеванные крошки. Он подавился, и Козлову пришлось долго хлопать его по спине.
Раскрасневшийся Генка сказал, что при удачном раскладе можно было взять все двести и что таким лопухам, как Митя, нечего делать у забора, надо учиться у старших товарищей, а деньги надо заставлять показывать, и каждую бумажку — на свет. «Век живи — век учись, — заключил Генка. — А рваные я обменяю. Давай сюда все бабки».
Через полчаса он принес новенькие хрустящие чеки, всего оказалось сорок с полтиной. «С меня бакшиш», — пообещал Митя, перетянул деньги резинкой и засунул поглубже во внутренний карман. Он решил, что со следующей получки купит кожаный «дипломат» и, вообще, потихоньку начнет готовиться к дембелю.
Новый год был сухим и теплым. Снег сошел, и только на верхушках гор лежали рваные по краям яркие сахарные шапки.
Все офицеры смылись, кто в армию, кто в дивизию, и остался только один комсомолец, который, как сам говорил, устал от всяких пьянок и Клав, заканчивающихся пальбой и драками. Он откопал в клубной каптерке телевизор и велел утащить его в комнату. Телевизор, как ни странно, показывал, причем неплохо: ловил и Союз и Кабул. Комсомолец пригласил их к себе на «огонек». Они, конечно, обрадовались, но Козлова решили с собой не брать. На него не хватало кровати, а тащиться в Новый год вдвоем на одной койке с чижиком не хотелось.
У них все было заранее припасено. За два часа до Нового года они приволокли два полных вещмешка продуктов. Генка даже умудрился достать арбуз, чем очень гордился: «Да нашим офицерам такой стол и не снился. Генералы, и те хуже жрут». Много они пить не стали — боялись комсомольца, хотя кишмишовкой, закупленной Генкой, можно было упиться вусмерть.
В двенадцать часов небо над Кабулом высветилось тысячами ракет. Вверх, перекрещиваясь и исчезая в темной синеве оттаявшей ночи, красными штрихами полетели звонкие трассеры. В парке на бронетранспортерах заработали пулеметы, по горам и городу прокатилось отраженное эхом «ура». Пьяные писаря высыпали в коридор. Тискали друг друга, целовались, смеялись, пели песни. Дежурный по полку выскочил из своей комнатушки, но ничего не сказал, а только пригрозил кулаком и хлопнул дверью. «Еще бы! Такой праздник, а ему нельзя, и часовому у знамени нельзя, и караулу, и всем, кто тащит службу». Митя невольно вспомнил Новый год в учебке, когда, измученные суточным нарядом по столовой, они приползли в роту, где их ждал стол с газировкой, засохшими булочками и лежалыми конфетами. На праздник собирали деньги, но сержанты, судя по их довольным рожам, заначили деньги себе на водку и отделались самой что ни есть дешевкой. Измученные курсанты немного поклевали со стола и завалились спать, хотя разрешено было негромко веселиться и смотреть телевизор до утра.
Когда хмель немного выветрился, они пошли к комсомольцу на «огонек». У того на столе стояла початая бутылка сухого вина, полупустая банка кабачковой икры, на бумажке лежал кусок сыра. Генка торжествующе улыбнулся и подмигнул Мите: «Что я говорил!»
Митя смотрел на телевизионный калейдоскоп лиц и плохо понимал, что происходит на экране. Он вспоминал большую двухметровую елку, каждый год появляющуюся в квартире у деда, с огромными разноцветными шарами, которые таинственно светились и покачивались в темноте на вздрагивающих ветках, а с веток мягко сыпались на пол высохшие иголки. Он вставал с постели и босыми ногами топал к елке, когда все еще спали — очень хотелось взять подарок, спрятанный за ватным Дедом Морозом. Было темно, завороженный и испуганный мерцанием шаров и шелестом иголок, он стоял и переминался с ноги на ногу, чувствуя, как по щиколоткам гуляет холодок, не решался подойти поближе. Ему чудилась среди веток ведьма с костлявыми скрюченными руками, и как только он подойдет ближе — она схватит его. Когда он представлял себе сгорбленную старуху с горящими глазами и огромным носом, холодок поднимался вверх, и он с воплем бежал в бабушкину комнату, где стояла деревянная самодельная кровать. Бабушка вскакивала с постели и прижимала его маленькое щуплое тельце к своему, большому и горячему, гладила по голове и, шумно дыша, шептала в ухо: «Что ты, родной? Что ты, маленький? Не бойся, бабушка с тобой, она тебя никому в обиду не даст. Спи, мое солнышко, спи, мой ласковый». Она укладывала его в кровать, накрывала теплым одеялом и долго сидела на краешке, гладила волосы и пела колыбельную — длинную нескончаемую песню, от которой закрывались глаза и приятная дремота охватывала тело. Он никак не мог вспомнить слов колыбельной, но ее большое горячее тело он помнил и даже тогда, когда стоял в черном тесном костюме у бабушкиного гроба, не верил, что ее тело может быть другим: застывшим, втиснутым в узкий, обшитый тряпкой ящик, и он не плакал; все плакали, даже отец украдкой вытирал уголки глаз, а он — нет; и когда мягкие комья посыпались на крышку, ему почудился шелест облетающей хвои.
Читать дальше
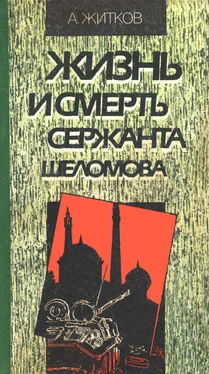

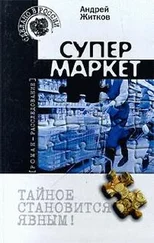







![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)
