Шафаров, показывая пальцем вниз, сказал срывающимся голосом: «Сработала та, дальняя, я чуть не наложил…» — «Чего ты суетишься, Шафаров? — спокойно проговорил Горов. — Наверное, собака или коза. Утром посмотрим».
Заснуть Митя больше не мог, хотя знал, что до смены еще часа два. Била нервная дрожь, и он никак не мог ее унять. Ворочался, стараясь забыть обо всем и уснуть, но так и не сумел — выбрался из укрепления.
— Проснулся уже? — удивился Шафаров.
— Да, не спится.
— Странно, у молодого — бессонница. Ну, тогда постой за меня, — и Шафаров нырнул в черную дыру укрепления.
Митя уселся на корточки рядом с Герой. Маляев сидел, прислонившись к стене, и смотрел в одну точку остекленевшим взглядом.
— Ненавижу! — произнес Гера так громко, что Митя испугался, как бы не услышал не успевший заснуть Шафаров. Но за стеной было тихо.
— Я за тебя здорово боялся, когда танцевали. — Митя положил руку Гере на плечо. — После тревоги не смог заснуть, подумал, что ты всех кончишь, пока спим.
— Да никого я не кончу! — захныкал Маляев. — Я в жизни никого пальцем не тронул. Я лучше себя убью. Возьму и застрелюсь! — сказал Москвич, все так же глядя в одну точку темного пространства над гребнем, и щелкнул предохранителем. Митя вскочил, схватился за ствол и с силой дернул на себя.
— Отдай!
Москвич разжал пальцы, и Митя полетел на землю. Он вскочил и дал Маляеву пощечину. Из укрепления донесся голос Горова: «Что у вас там за мордобой? Несите службу как положено. Утром выясните отношения». Москвича будто дернуло током; он поднялся и нервно заходил взад-вперед, шебурша мелкими камешками. Митя увидел, как у ног Москвича поднялись клубочки пыли. «Ему больно ступать, — догадался Митя. — Наверное, ноги совсем сгнили». Он подошел к Москвичу и заговорил, стараясь увидеть его глаза:
— Прости, Гера, я не хотел. Нельзя же так распускаться! Тебе достается немногим больше остальных, а ты закатываешь истерики, — неожиданно жалость прошла. — Почему я должен терпеть твои истерики? Я такой же, как ты, бесправный чижик! Если хочешь, капризничай перед стариками, а не передо мной. — Он повернулся и зашагал прочь. Под ноги ему попался автомат Москвича, он отпнул его.
— Митя! — Москвич догнал его. — Ты пойми, я не капризничаю. Не могу больше! В Союз хочу! Иногда думаю, пусть лучше ранят — в госпиталь попаду, но в Союз, а там уж зацеплюсь, останусь как-нибудь.
Митя остановился и покрутил пальцем у виска.
— Идиот! — внезапно он вспомнил, что думал так же на второй день рейда.
— Сделай для меня доброе дело, — Москвич перешел на шепот, хотя они были далеко от укрепления. — Прострели мне руку.
— Что-о?! — Митя схватил Москвича за ворот.
— Откроем стрельбу, скажем, что душманы, никто не узнает, — заторопился Москвич, отворачиваясь от удара.
— Ну, гнида! — Митя выпустил Москвича и зашагал к укреплению. Он уселся лицом к кишлаку, чтобы не видеть сутулую фигуру Москвича.
«Каков сучонок! Мы, значит, будем под пулями ползать, а он в госпитале до дембеля тащиться. Ну, сволочь! Как его в учебке-то терпели, гада!»
Митя просидел так, не видя перед собой ничего, кроме темных пятен нарастающего гнева, пока Москвич не ушел будить Рожина. Не дожидаясь, пока заспанный Рожин вылезет и заговорит с ним, Митя поднялся на гребень и всю оставшуюся ночь вышагивал по нему, как образцовый солдат, вызывая у Рожина недоумение.
Никакой банды ночью не было.
Опять потянулись похожие один на другой дни охраны. Ночью Митя стоял на посту, утром щелкал вшей и дремал, пока не просыпались старики, потом — завтрак из перловки и тушенки, и они с Москвичом и Кадчиковым отправлялись вниз на броню за водой и обедом. Ни с тем, ни с другим Митя не разговаривал.
Внизу приходилось ждать, пока сварится суп, и он за это время успевал умыться под шлангом водовозки, сходить к Вовке, которому сильно доставалось от стариков «за халяву» на броне. Они сидели с Вовкой в «бэтээре», курили и болтали до тех пор, пока кто-нибудь не шугал их оттуда.
А потом часовой подъем на гору с горячим термосом за плечами, в котором бултыхался жидкий суп, и целых полдня вынужденного одуряющего безделья под беспощадным солнцем и выполнение идиотских унижающих приказаний.
На четвертый день старики истощили свои запасы издевательств и перестали их трогать. Они лежали под ковром, дурели от жары, пели песни, потели и время от времени просили пить; иногда по вечерам забивали косячок.
Через неделю жизнь потеряла всякий смысл. Митя знал, что он будет делать завтра, послезавтра; порой ему казалось, что время остановилось и впереди — ничего, кроме бесконечной смены дней и ночей. Теперь ему стало лень умываться под шлангом, даже разговаривать с Вовкой, даже возненавидеть все окружающее было лень.
Читать дальше
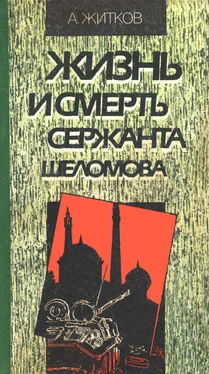

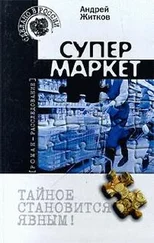







![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)
