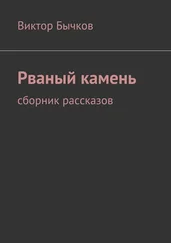Опять двинулось небо, зашевелились звезды, ноги тянулись по земле. Сознание прояснилось, и сильно хотелось пить. Боль была тупой, болело все тело. Только теперь он начал осознавать, что его везут, везут две женщины – старушки, и везут не на чем-нибудь, а на ручной самодельной тележке, которую в округе называют «колесками». Два небольших металлических колеса на одной оси, с легким коробом между ними и п-образным дышлом. Вот и вся конструкция!
Колеса скрипели, было слышно, как тяжело, с сипом, дышали спереди женщины. Туман снова заволакивал сознание, звезды заплясали, закружились, ноги отделились от туловища, перестал чувствовать их, потом и все тело куда-то сорвалось, взмыло вверх – такое легкое, приятное, без капельки боли. Он уже видит себя сверху, с высоты, неловко лежащем в коробе тележки. Ноги свисают до земли, волокутся следом, голова подвернута и прижата бородой к груди; две старушки, зажав руками перекладинку на дышле, почти лежат над землей, упираются, тащат его.
Тележка покатилась с горки, колеса прыгают в ямку, голова Антона бьется об переднюю стенку; резкая боль пронзает мозги, все тело, и он застонал.
– Тихо ты, кобыла старая! – четкий голос накинулся на напарницу.
– Не дрова везем!
– Попридержи, попридержи, подруга, не то колески нас самих задавят, – зашепелявила напарница. – И не лайся, а лучше держи сама. Только ругаться и умеешь. Кобыла, сама ты кобыла. Молись богу, Никифоровна, что еще так помогаю. Сейчас приедем, и все – вызывай ко мне попа Никодима на отпевание.
– Тебя и оглоблей вряд ли убьешь, – незлобиво ворчит подруга. – Ты всех попов в округе перехоронишь, но сама….
Антон слушает перебранку женщин, и уже отличает Марковну от Никифоровны по голосу. Хотя думать долго пока не в силах. Опять пелена перед глазами, состояние между явью и забытьем.
Свет от лампы, что стоит на табуретке у изголовья, больно режет глаза, приходится отвернуться к стенке. Зато хорошо виден потолок – низкий, с необрезных досок с сеном наверху. Значит, он в хлеву. Но почему здесь, а не в доме? И что это за сарай, в какой деревне? Кто вокруг – немцы или партизаны? Этот вопрос главный, он волнует Антона больше всего.
Осматривает себя, с недоумением отмечает, что на нем нет форменной одежды. Поднимает руку – исподнее белье. Пощупал на ногах – тоже самое. Нога, кажется, не болит, а только ноет, крутит, и очень зудит. Да и в груди полегчало – нет той противной разрывающей боли, что запомнилась ему еще там, в поле. И сама она перебинтована чем-то: он чувствует эту повязку. Во всем теле сильная слабость, вон, даже руку еле сил хватило поднять. Хотелось есть. А вот пить уже не хочется. Обрывками в памяти всплывает ковшик с чем-то жидким, пахучим, он пьет из него, жидкость проливается на грудь. Он помнит мокрую грудь. Дотягивается рукой, проводит по ней – нет, все сухое. Потом вспомнил, как его перекатывают с бока на бок, людские голоса, и не только женские, но и мужской. Ему сейчас кажется, что тот, мужской голос, ему знаком, он где-то встречал того человека, виделись они, разговаривали. Додумать до конца сил не хватило, сон опять подкрался, сомкнул веки.
Прямо перед ним у кровати стояла девочка. Лампа уже не горела, через открытую дверь в сарай заглянуло солнце, осветило ребенка. Две косички с вплетенными в них белыми лоскутками материи торчали по обе стороны головки, рот приоткрыт, глаза заворожено смотрели на Антона. В руках держала тряпичную куклу. То и дело шмыгала носом, и одергивала вниз надетое на нее серенькое платьице. Щербич попытался улыбнуться ей, но смог только скорчить гримасу.
– Бабушка, бабушка! – заметив, что он проснулся, девочка кинулась к дверному проему. – Ожил, ожил! И глазами зыркает!
– Тише, тише, оглашенная! – цыкнула на нее старушка, и засеменила к Антону. – Что кричишь на всю округу? Ожил, и хорошо. Так и должно быть. Беги, кликни Марковну, только тихо, чтобы ни гу-гу!
– Где я? – Антон не узнает свой голос: слабый, срывающийся, хриплый.
– На месте, мил человек, на месте, – бабушка наклонилась, поправила подушку, отвернула одеяло, задрала рубашку на раненом, посмотрела. – Все идет свои чередом, касатик, так как надо. Ты лежи, лежи. Сейчас покушаем, и отдыхай, отдыхай, сынок. Все хорошо.
Она не произносила слова, а ворковала, убаюкивала. Голос успокаивал, расслаблял сознание, нес покой в тело, в душу. Стало хорошо, покойно, как не было покойно уже давно, наверное, с детства, когда был еще на руках у мамы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу