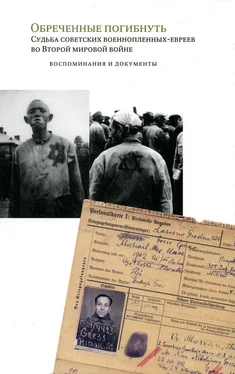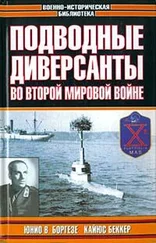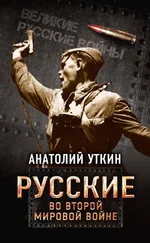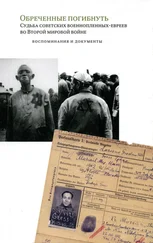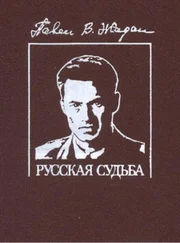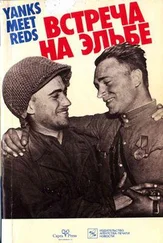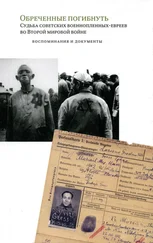Но милый друг Суетин,
Неугомонный наш,
Тогда же все приметил
И взял на карандаш… [65]
Владимир Высоцкий знал, вероятно, что в каждом отделении Красной Армии должен был быть стукач. Но кто же мог подумать, что в обычной колонне пленных, людей одной непростой судьбы, тоже найдется такой профессионал?! Возможно, такой стукач попал в плен в составе своей дивизии и, по привычке, продолжал свою работу, надеясь на последующее снисхождение.
Удивительно, но в сборном лагере на п/о Ханко я совершенно не помню, что делали Сашка Волохин и Боря Ермаков. Я уж не говорю об исчезнувшем Ибрагиме.
А между тем нас всех распределили по алфавиту А-Б-В-Г и т. д. и в один прекрасный день погрузили в теплушки, согласно фамилиям. В «моей» теплушке, однако, не оказалось ни Волохина, ни Бариева. Вероятно, они попали в другие теплушки.
Итак, мы поехали на Родину. Кончился плен.
Попал в плен я 7 августа 1944 г., 4 сентября Финляндия капитулировала. Но со всеми проволочками я пробыл «за границей» еще почти 2 месяца. Много всего было за это время, но…
Осталось, как всегда, недосказанное что-то…
Двери в «родных» теплушках, в отличие от финских во время поездки по Суоми, были всегда закрыты, хотя верхние окошки-люки – не зарешечены. Не было также откровенно видимого конвоя. Комплектация пассажиров в теплушках производилась по царско-зэковскому принципу: 40 человек или 8 лошадей. Короче говоря, нас было много. Двухъярусные нары, в середине, в полу, – дырка для справления малой нужды. Не помню, была ли у нас буржуйка, но было достаточно тепло. Двинулись домой мы 2 ноября. Вероятно, по большой нужде нас все-таки выводили на длительных стоянках. Во время одной такой остановки пленные признали одного прятавшегося и «несудимого» старосту – Андреева. Это был лютый зверь. Ребята пытались добраться до него – его бы разорвали на куски. Но его куда-то увели под усиленным конвоем. Целый взвод солдат и, в середине, высокий, сутулый, немолодой мужик – Андреев.
Запомнилась мне стоянка на запасных путях в Выборге. У кого-то из ребят я раздобыл обертку от цибика чая и карандаш. Написал «письмо», опять-таки Маришке, о том, что я жив-здоров и прошу сообщить об этом моим родным.
Письмо я сложил треугольничком, по армейскому образцу и, дождавшись, когда по запасным путям пройдут железнодорожники, выбросил письмо в люк-окошко и попросил переслать по адресу. Письмо переслали, Маришка его получила и обрадовала моих домашних. Я обещал им, что напишу подробное письмо, когда прибуду на место.
Но куда нас везли, не знал никто. Ехали мы очень долго. Становилось довольно холодно.
На одной остановке, нам казалось, что мы будем здесь стоять долго, так как вроде бы меняли паровоз, мы решили послать кого-нибудь к станции за кипятком. Самым молодым и «спортивным» оказался, по их мнению, я. Я вылез в люк, спрыгнул на землю и, получив от ребят какую-то емкость, побежал к станции. Во время войны на каждой станции, разумеется, не разрушенной, обязательно было налажено обеспечение кипятком. Это вменялось в обязанность железнодорожникам, так как никаких буфетов не существовало.
Набрав из большого крана кипятка, я подошел к своей теплушке и передал ведерко или котелки в люк. После этого я хотел сам взобраться в свое узилище. Но тут ко мне подошел конвойный солдат и обвинил меня в самовольном оставлении своего «вагона», что можно было квалифицировать как попытку «побега».
В качестве наказания я был водворен в последнюю в составе пустую теплушку. «Теплушка» оказалась «холоднушкой». Это был своеобразный холодный карцер на колесах.
Меня заперли, состав тронулся, и я начал замерзать. Как мы потом высчитали, это произошло где-то в районе Урала, а там начало ноября – начало зимы. Я был даже без шинели и, чтобы согреться, стал бегать по своей «теплушке» – сначала кругами, потом – выписывая восьмерки в прямоугольнике пола. Часа три или четыре, до следующей остановки, я занимался этой вынужденной не очень «легкой» атлетикой. На следующей стоянке меня снова перевели в «родной» вагон. Пассажиры оценили мою жертву – я попил горячего чайку.
Ехали необыкновенно медленно. В пути «встретили» праздник Великого Октября и 11 ноября прибыли, наконец, к месту назначения.
Судженка: шахта № 5/7
Это был небольшой шахтерский городок, а скорее, поселок Судженка (когда-то – Судженские копи) [66] . Для местных жителей мы именовались «репатриированные», для советской власти – «изменники Родины». Мы, конечно, понимали, что с таким гигантским потоком «возвращенцев» очень соблазнительно и легко забросить и внедрить своих людей – шпионов, поэтому неудивительно, что впредь нами должен был заниматься Смерш (Смерть шпионам).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу