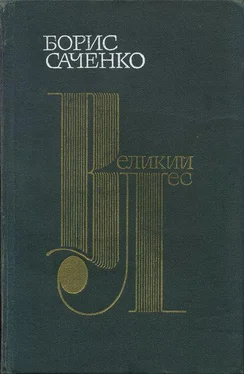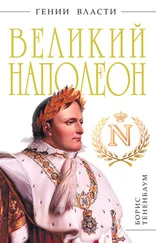Пилип не хотел отставать, пошел вместе со всеми.
Но едва он втиснулся в людскую толпу, как ему кто-то наступил сапогом на мозоль. Пилип, не выдержав, ойкнул.
— Погоди, сосед, — услыхал он над самым ухом голос Матея Хорика. — Не лезь поперед батьки в пекло…
И чуть ли не силой, схватив за плечо, потащил Пилипа из людской толчеи.
Когда, запыхавшиеся, потные, выбрались из толпы, несколько минут стояли молча и смотрели, как пробивались к парому люди: каждый стремился попасть туда первым, и в результате все только мешали друг другу, перли напролом с криками и какой-то дикой то ли радостью, то ли злостью. Матей Хорик сплюнул себе под ноги.
— Тьфу, и куда так рваться…
— Известно, на тот берег, — отозвался Пилип: ему, бедняге, было не до рассуждений — живая рана — будь он проклят, тот сапог! — болела, хоть на стену лезь.
— А я думал… — опять чего-то вроде не договаривал, цедил сквозь зубы Матей Хорик.
— Что ты думал? — перевел глаза на небритое, заросшее черной щетиной лицо соседа Пилип.
— Да… Что ты нарочно ногу натер…
— Как это — нарочно?
— Ну-у… — не говорил сразу, тянул Матей. — Чтоб на хронт не погнали, домой отпустили… А ты… в герои лезешь…
— В какие герои?
— Да в те самые, что и Иван ваш… Пошли, пока не поздно, отсюда, подорожника к ране приложи. Не то нарвать может, ногу совсем разнесет. И не ступишь…
В последних словах Матея Хорика была правда. Прежде чем переправляться на тот берег, надо было спасать ногу.
Отошли еще дальше от переправы, нашли подорожника, прилегли на траву. Послюнив листок, Пилип приложил его к ноге. Но боль не унималась, рана так и дергала. И Пилип, и Матей Хорик молчали, не отрывали глаз от реки, — была она здесь, в месте переправы, широка, полноводна. Кусты тальника копнами подходили к самой, воде. Но кое-где берега были голые, поросшие только осокой, аиром, беленой, камышом, а то и вовсе желтые, песчаные, обрывистые. На самое речную гладь невозможно было смотреть — в ней плавилось, отражалось солнце, слепило глаза.
Между тем паром, нагрузившись, медленно, тяжело отвалил от берега. Толчея немного улеглась, крики и галдеж поутихли. Люди — кто оставался стоять у реки, кто отходил, чтобы посидеть или прилечь. Пролетели, пронеслись низко, едва не касаясь крыльями воды, дикие утки — чирки. Пара.
— Пилип, — первым оторвал глаза от реки Матей Хорик, — ты и правда собираешься переправляться на тот берег?
— А как же? — недоуменно посмотрел на Матея Пилип: о чем ты, мол, человече, спрашиваешь, на что все время намекаешь?
За три дня дороги Матей Хорик исхудал, стал похож лицом на воробья — нос да глаза.
— А я… — тянул, мямлил Матей. — Я вот думаю, стоит это делать или нет.
— Так тебя никто не спрашивает. Надо!
— Кому надо?
— Как — кому? И тебе, и мне… Всем нам.
— Всем, говоришь. Умгу, — ныл, как назойливый комар над ухом, Матей. Вздохнул, окинул глазами реку, как бы измерил ее ширину, проговорил: — На тот берег трудно переправиться. А с того — на этот… Легче разве?
— Чего это тебе с того берега переправляться снова на этот? — никак не догадывался Пилип, к чему клонит Матей.
— Как это — чего? Хаты же наши, семьи — на этом берегу…
И умолк, не произнес больше ни слова, лишь как-то с хитрецой, многозначительно поджал полные губы, усмехнулся про себя. Может, и сказал бы что-нибудь еще, но в это время прогудел, пролетел над переправой самолет. Задрали головы, глядели, пытаясь догадаться, чей это самолет — наш или, может, немецкий? Самолет пролетел над рекой, возвратился, снова пролетел, сделал и один, и второй круг над переправой. И исчез. Исчез так же внезапно, как и появился. Никто не придал появлению самолета особого значения, возможно, потому, что не привыкли еще, не знали, зачем в войну летают самолеты, да и не научились распознавать, какие из них наши, советские, а какие чужие, фашистские.
Прошло, наверно, с полчаса, паром за это время успел доплыть до того, левого берега, разгрузиться и воротиться назад. Снова к нему ринулись со всех сторон люди, облепили его; снова он долго стоял в ожидании, пока слезут лишние и можно будет тронуться в путь. Наконец отплыл, люди отхлынули от причала.
— И нам, видать, нора к парому подаваться, — сказал Пилип.
— Кто за что, а поп за молитву, — скривил в ухмылке губы Матей.
— Так приказано ведь.
— Приказано… А если тебе в огонь, в пекло прикажут идти? Так что — пойдешь?
Задумался Пилип. Приказывать, известное дело, охотников всегда хватает. А вот выполнять, делать… Да и легче приказывать-то, куда легче… Но тут, сейчас… Не тот случай…
Читать дальше