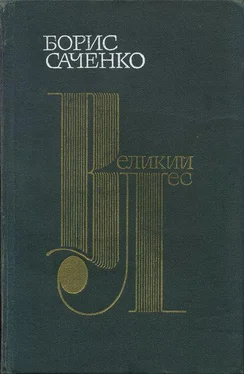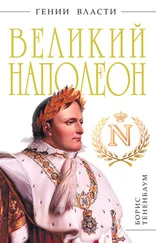И до Ивана наконец дошло, отчего нахлынула, овладела им такая умиленность. «Да это же… война. И я… не сегодня, так завтра расстанусь со всем этим… И когда снова буду здесь?.. А может… никогда уже и не увижу всего этого. Потому что… Война — это прежде всего слезы и смерть… Слезы и смерть близких и знакомых, сотен, тысяч людей…»
Шевельнулось что-то тревожно-щемящее, тягостное внутри, кольнуло в самое сердце. Остро, как никогда раньше, ощутилась радость от того, что ты живешь, что есть, существует для тебя вот это теплое летнее утро, эта знакомая с малых лет дорога, чистая голубизна неба над головою; есть, наконец, свои, пусть иногда мелкие, но столь необходимые человеку заботы и хлопоты, есть то, с чем каждый день имел дело, о чем думал, болел душою, чем жил. И надо же — не ценил всего этого, не мог себе даже представить, что его может и не быть, — думалось: это навсегда, навечно.
«А оно вон как все внезапно обернулось! Я вот жив-здоров, еду по дороге, любуюсь небом, лесом, полем, слушаю птичьи голоса, думаю обо всем, что придет в голову, а кто-то такой же, как я, уже погиб, уже нет его на свете… Потому что войны без смертей не бывает… Ай-я-яй, это же целые сутки идет война!»
На минуту попробовал вообразить, что происходит сейчас, вот в эту минуту, там, на войне.
И не смог…
«А вдруг… нет нигде никакой войны, вдруг ошибся Боговик, поторопился сказать, не проверив, то, что сам от кого-то услышал?» — кольнула, как иголкой, несмелая мысль.
Дернул за вожжи — поехал быстрее.
* * *
К райкому — он вместе с райисполкомом помещался в двухэтажном каменном, некогда панском особняке, белевшем в большом старом, тоже некогда панском парке, — Иван подъехал, когда не было еще и восьми часов. Привязал к коновязи коня, бросил ему охапку еще не завявшей, мокрой от росы травы.
— Жуй, жуй, — сказал ласково и похлопал ладонью, погладил потную шею.
Размял затекшие ноги, прошелся взад-вперед по парку, удивляясь тишине и покою, царившим здесь. Вернее — покою, а что до тишины… В парке, как и в лесу, распевали, высвистывали на все лады мелкие пичуги, задумчиво шумели деревья, капала, звучно падала с листка на листок — шпок-шпок, шпок-шпок-шпок — роса.
«Наверно, все-таки выдумка, нет нигде никакой войны, — закрадывалась, обретала радостную определенность мысль. — И когда Ельниками ехал, ничего такого в глаза не бросилось… Все спокойно».
Вернулся к коню — тот перебирал губами травинки, искал повкуснее, подымая время от времени голову, косил то вправо, то влево глазом и фыркал, отгонял комаров и мошкару, которые так и вились, висели над ним тучей.
— Рановато мы с тобой сегодня приехали, — сказал Иван коню — доверительно, как доброму старому другу. — В райкоме никого еще, видно, нет…
Но ждать девяти часов не стал — поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж особняка, остановился перед дверью, за которой сразу после приемной был кабинет Боговика.
«А вдруг Боговик у себя? — подумал Иван. — Мало ли что… Он вообще в райкоме всегда допоздна засиживается… И приходит рано. А тут же…»
Даже мысленно не произнес слова «война», спохватился, отогнал его от себя, как наваждение.
Секретарши в приемной не было.
«Нет, скорее всего, и Боговика. Придется обождать…»
И все же не выдержал — на всякий случай толкнул дверь в кабинет первого секретаря. Дверь легко, без скрипа отворилась, и Иван увидел: Боговик на месте, за своим столом. Только что ж это он?.. Облокотившись на стол и уронив на руки без поры поседевшую голову, он… Уж не спит ли?
— Роман Платонович…
Боговик поднял голову, посмотрел недоуменно: кто это нарушил его покой, прервал сон?
— А-а, это ты, Дорошка, — сказал и с улыбкой поднялся из-за стола, размашистым шагом пошел навстречу Ивану. — Извини, задремал… В райкоме всю ночь…
— А зачем? — спросил с ожившей тревогой Иван.
— Мало ли кому я могу понадобиться! Война… Надо привыкать, ко всему привыкать.
— Так правда-таки, война началась? — похолодел с головы до пят Иван.
— Ты еще не веришь? — уставился на него, как на диво, секретарь райкома. (В больших карих глазах своего хорошего друга Иван прочел не только усталость, но и какую-то задумчивость, озабоченность, которых никогда раньше не замечал.)
— Не верю, Роман Платонович. Не то чтобы не верю, — поправился Иван, — а не хочу верить… Как-то очень уж все это… даже не неожиданно, а… Ну, словом, невозможно принять. Это же… полностью все надо на иные рельсы ставить. И промышленность, и сельское хозяйство. Да и нам тоже надо целиком перестраиваться.
Читать дальше