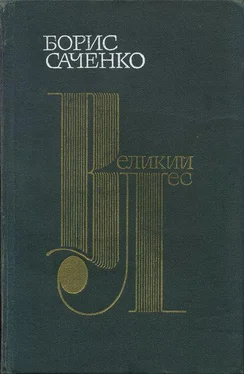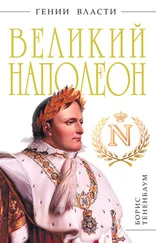Ходил Пилип к Тришкиной жене Анюте, рассказывал, что муж ее вытворяет, чем занимается. Но Анюте это было не в новинку — знала, давным-давно все знала. Урезонить же мужа, отвадить его от чужих жен не могла.
— Уродился он такой, таким, видно, и помрет, — плакала Анюта.
Бил, топтал ногами Клавдию Пилип — не помогало. Как путалась с мужиками, так и продолжала путаться… Выгонять из хаты жену было все-таки неловко, сама же она не уходила…
«Пусть бы и правда война какая началась, — возвращаясь с пустым мешком от магазина после разговора с братом, думал Пилип. — Меня бы на фронт забрали, а она, Ковдра, пусть бы как хотела, так и жила».
Знал: нехорошо это — желать войны, ибо война — это разрушения, горе, для всех горе.
«Ну, не война, так что-нибудь другое. Чтоб меня только из дому куда-нибудь забрали, чтоб мне не оставаться здесь. Потому что бросить хату, Клавдию, уйти, уехать отсюда… Нет, не смогу я…»
Убедившись, что Костик, скорее всего, подался домой, в деревню, Николай неторопливо, останавливаясь чуть не на каждом шагу, обошел поляну, еще раз, теперь более придирчиво, внимательно осмотрел свежую, только что сделанную изгородь. Кажется, все как следует — столбики врыты глубоко, жерди положены часто, да и перевязи крепкие, надежные — лозовые. Коровам не залезть в просо, а вот что до диких свиней…
Да ведь просо — это не картошка, до него свиньи не шибко охочи. Увидел — жердь в одном месте криво лежит. Подошел, поправил, крепче прижал ее лозиной.
«Составит Бабай акт или не составит?» — шевельнулось в голове.
Постоял, вдохнул полной грудью запах смолы-живицы, который шел, заглушая все остальные лесные запахи, от недавно срубленных сосновых жердей, и, сам толком не зная почему, решил: «Не составит, побоится».
Заныло незаживающей раной, к которой неосторожно прикоснулись, — что именно заныло, он, Николай, не знал, лишь чувствовал: что-то глубоко-глубоко внутри, — вспомнились Костиковы слова: «Тата, вам бы забыть уже эти поляны. Сколько раскорчевали за свой век, а где они? Мама из-за полян на тот свет пошла…»
«Сморкач, а смотри ты его… Ровно шилом, ровно знал, куда метит…»
Опять какое-то время был как оглушен, не мог сосредоточиться на чем-то одном, на важном, целый рой думок нахлынул на него, и он, Николай, не в силах был совладать с этим роем, с этим хаосом, так неожиданно взявшим его в плен, лишившим воли. Когда же наконец злость на сына отступила, улеглась, перестала горячить кровь — «Может, он не подумавши ляпнул, так, без намерения обидеть меня, отца», — Николай из всего роя-хаоса выбрал самое главное — оно, это главное, как казалось Николаю, объединяло, заключало в себе одно, всего одно слово — «поляны», — и встряхнул головой, будто хотел прогнать от себя наваждение, тяжкую одумь.
«И правда, сколько я за свой век раскорчевал, отнял у леса этих самых полян, превратил их в поле!..»
Вспомнилась та, не первая ли в жизни поляна, на которую привел его, совсем еще мальчонку, как-то по весне отец, — поляна была далеко в лесу, рядом с огромным штабелем дубовых и кленовых плах, кругляков. «Это такую гору леса заготовили на уголь, — сказал тогда ему, показывая на штабель, отец. — Ее обложат дерном, засыплют землею и подожгут. А полянку, делянку эту можем раскорчевывать, засевать…» На поляне поодаль, шагах в двадцати, горел, дымился, пластаясь по земле сухими ветвями, вывернутый с корнем, вероятно, бурей, толстый, дуплистый, с ободранной корою дуб — горел, дымился, отгоняя комаров и не затухая ни днем, ни ночью. И они с отцом в том дыму, который так и драл горло, выедал глаза, копали, ворочали сырую, вязкую и потому тяжелую землю. Вернее, копал, ворочал землю отец, а он, Миколка, больше занимался у костра — пек в золе картошку, жарил на прутике сало…
С тех пор каждую весну ходил он, Николай, сперва с отцом, а потом и один — сам хозяин! — осваивать новые и новые поляны. Всего два-три года давал пан Холявин пользоваться отвоеванной у леса землей, а после, когда поляна была уже как следует обработана, когда на ней начинало родить, забирал себе, присоединял к своему полю…
Сбросили царя, заводы, фабрики отдали рабочим, землю — крестьянам. Думалось — теперь каждая раскорчеванная поляна будет навеки твоя. Потому и лез из кожи, старался так Николай, чтобы побольше, побольше земли захватить. На освоенной поляне ни пенечка, ни корешка нигде не оставлял — все выкапывалось, вырывалось, сжигалось. Особо безжалостно уничтожался молодняк. С ним ведь что — оглянуться не успеешь, как он тут и там снова поднимается, щеткой лезет. То пни, корни ростки пустят, то семечко, бог весть когда и кем занесенное на поляну, прорастет. Вырубали, выдирали поросль топорами и лопатами, скидывали в кучи. Каждый же хотел, чтоб не клочок поля лысел посреди леса, а приличный был загон, на котором можно с конем и с плугом развернуться, вспахать и забороновать. Много, много в те годы бросовой земли стало полем. Люди рыли канавы, оплетали их лозою, спускали с болот в реки воду. Где только можно было корчевали пни, вырубали лозняк, ольшаник, березняк, осинник. Сколько было загублено леса! Поле, только бы побольше поля! О лесе никто тогда не думал. Хватало леса, куда ни пойдешь — лес и лес, повсюду лес. Неба и то из-за него порой не увидишь.
Читать дальше