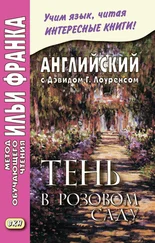Будь у него чувство юмора или вкус к сальностям, мы бы сходились с ним лучше. Но Эбнер был вечно серьезен. «Кто забыл поставить ботинки у кровати?» — спросил он однажды утром. Узнав свою собственную койку, он лишь мрачно прошел мимо. Трудно, конечно же, немолодому человеку квартировать неделю за неделей в таком обезьяннике, как у нас. Ему не о чем было с нами разговаривать, но однажды днем за ним зашли двое друзей, и он отвел их в столовую и развлекал до отбоя. Ходят слухи, что он допился до поросячьего визга прошлым годом в Хендоне, на показательном вечере, когда отвечал там за очистку палаток с прохладительными напитками. Мы надеемся, что так оно и было, и повторяем эту историю, чтобы убедить себя.
У Эбнера было твердое лицо с узкой, как у танка, челюстью, ровными бровями и широким, низким лбом. Взгляд его был прямым и вселял беспокойство, потому что глаза его были на удивление глубоко посажены, а нижняя челюсть — весьма тяжелая челюсть — слегка выдавалась вперед. Поэтому его разделенные губы, казалось, готовы были улыбнуться или заговорить. Это придавало ему настороженный вид: но слова его всегда были серьезными, и я всегда подозревал, что улыбка его не лишена жалости.
Он был мастером по части солдатского дела, обмундирования, снаряжения. Никто из нас не мог за полчаса заправить кровать так, как он за три минуты. Но всегда в нем присутствовало это пуританское избегание хвастовства. Он, казалось, почти стыдился своей ловкости. Позже, когда мы оставили сборный пункт, мы обнаружили, что это черта настоящего летчика, в отличие от «любимчиков Стиффи». Пока что он озадачивал нас. Конечно, он был стар. На войне он был армейским сигнальщиком. Он заслужил три нашивки за ранение и управлял нами, шумными, как будто от нас не могло исходить никакой опасности. Только вот смеялся слишком мало. Но на параде глаза его очевидно улыбались, когда он держался перед нами, слегка откидываясь на каблуках, чтобы прокричать приказ. Ну что его так веселило?
Сегодня вечером, когда должна была начаться перекличка, раздался ужасающий удар трости в дверь барака; и дверь чуть не соскочила с петель. На свет вышел Бейкер, капрал с крестом Виктории, которому из-за военного ордена многое позволялось в лагере. Он прошагал вдоль моей стороны барака, проверяя кровати. Малыш Нобби, застигнутый врасплох, был в одном ботинке. Капрал Бейкер остановился. «А с тобой что такое?» «Я выбивал гвоздь, от него нога болит». «Надеть ботинок сейчас же. Фамилия?» Он прошел до двери в конце, развернулся и бросил: «Кларк!» Нобби, как положено, отозвался: «Капрал!» — и бегом захромал по коридору (мы всегда должны бежать, когда нас зовут), чтобы вытянуться перед ним в струнку. Пауза, затем резко: «Назад к койке».
Но капрал все еще ждал, и мы должны были ждать тоже, выстроившись у кроватей. Снова, резко: «Кларк!» Спектакль повторялся снова и снова, а мы, четыре колонны, все смотрели, пригвожденные к месту стыдом и дисциплиной. Мы были нижними чинами, а нижний чин здесь унижает себя и свой род, если унижает себе подобного. Бейкер жаждал неприятностей и надеялся спровоцировать кого-нибудь из нас на какое-нибудь действие или слово, которое могло бы послужить поводом для нашего обвинения. Нобби послушно ковылял взад-вперед, наверное, раз восемь, пока в другой двери не показался капрал Эбнер. Бейкер развернулся и исчез. Когда Эбнер услышал наш рассказ, он снова вышел из казармы и вернулся уже перед сигналом гасить огни, мрачно улыбаясь.
Для меня этот час был отмечен личным делом. День за днем я набрасываю эти заметки о нашей жизни на сборном пункте, часто пишу в кровати между перекличкой и сигналом гасить огни, на любом клочке бумаги. Поэтому кажется, что я всего лишь пишу письма. Теперь эти листки превратились в неуправляемую мятую груду. Но я не мог выслать первые из них, потому что часто возвращался с более полным пониманием к прошлому опыту и дополнял его; или собирал впечатления, скажем, о трех пожарных караулах в один. Наконец на ум мне пришла чистая записная книжка с отрывными листами среди моих бумаг в Лондоне; и я выписал ее оттуда. Она пришла сегодня, и сейчас я развернул ее, чтобы начать перенос: но, когда я для начала встряхнул страницы, на пол вывалился мой давний пергаментный патент полномочного министра: — «Георг», ну вы знаете, «своему доверенному и любимому»… с печатью, такой же красной и почти такой же широкой, как было мое лицо. «Это что?» — спросил любопытный Питерс. «Мое метрическое свидетельство», — выкрутился я, убирая его подальше с глаз.
Читать дальше
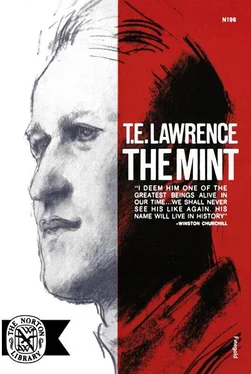



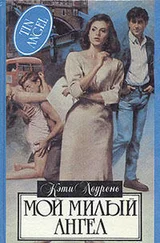




![Томас Лоуренс - Семь столпов мудрости [litres]](/books/431973/tomas-lourens-sem-stolpov-mudrosti-litres-thumb.webp)