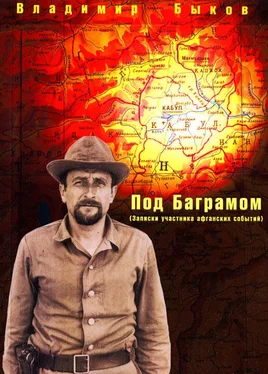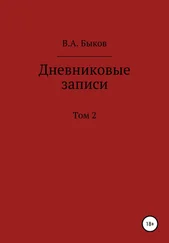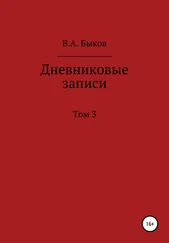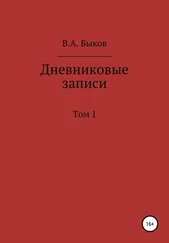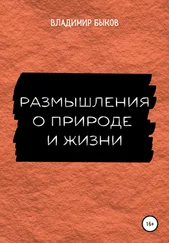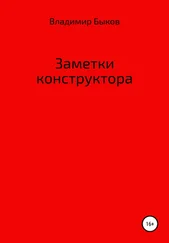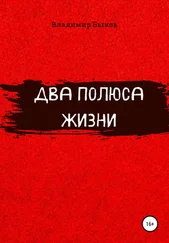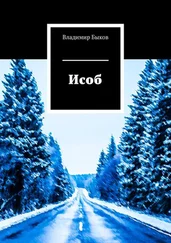Однажды, при осложнении обстановки и очередных слухах о предстоящем захвате города, провинциальное руководство прибыло в царандой ко времени нашего отправления в Баграм, забралось в БТР и заявило, что информация о захвате города достоверная и они оставаться здесь не будут, поедут с нами в Баграм. Я убеждал их, что в городе немалые силы милиции, вооружённых партийных активистов, что мятежники понимают важное стратегическое положение города, знают о наличии в провинции значительных советских сил и вряд ли пойдут на такую акцию. К этому я добавил, что провинциальная власть должна когда-то становиться на ноги и если уж не наступать, то хотя бы защищать себя. Они парировали мой аргумент неотразимым тезисом о том, что везде, где возникает народная власть, её защищают советские войска, будь то в Германии или Монголии, в Чехословакии или на Кубе. Договорились, что они останутся на месте, а мы от их имени будем просить советское командование разместить в Чарикаре советское подразделение. Периодически при осложнении обстановки советское командование присылало в Чарикар на некоторое время войсковое подразделение численностью до роты.
Поскольку большую часть территории контролировали мятежники, постоянно актуальной задачей было пополнение призывниками армии, милиции. Из-за трудностей призыва отслужившим солдатам продлевали сроки службы, что вызывало их обоснованное недовольство. Однажды из Кабула прибыла бригада афганских «командос» (десантников) и провела призывную операцию в Чарикаре, согнав в фильтрационный пункт множество людей. Наряду с другими, они «призвали» и человек 20 солдат царандоя, причём очень оперативно увезли их в Баграм для дальнейшей отправки в Кабул. Командующему царандоя и мне пришлось догонять колонну, отбирать своих людей.
Мне как-то доложили, что на одном из крупных постов, противостоящих мятежникам у зелёной зоны, личный состав в панике, боясь захвата поста, собирается оставить его. Я с переводчиком и кем-то из офицеров царандоя добрались до поста и выяснили, что солдат обеспокоили сведения о якобы ведущемся мятежниками от своих позиций подкопе под пост с целью взорвать его и потом захватить. Оперативная информация о подкопах под посты действительно периодически поступала, хотя мне такие действия противника представлялись маловероятными. Я стал убеждать солдат, что необходимых специалистов и приборов, чтобы точно вести подкоп, у партизан нет, а вслепую, даже если они действительно ведут подкоп, точно выйти на пост они не смогут. Пришлось проводить аналогию с действиями человека с завязанными глазами, ищущего в комнате нужный предмет, и чуть ли не проводить такой эксперимент. Подействовало.
Помню проводившуюся зимой операцию в зелёной зоне. На минах подрывалось много техники. Я лично видел подорвавшийся советский танк буквально в сотне метров от границы города.
Чарикар, как говорилось, стоял у подножья гор, хотя хребты там плавно на протяжении нескольких километров понижались к плато. Не думал, что городу может что-либо угрожать от природных явлений в горах, но один раз до города дошёл сель, вызванный то ли таянием снега, то ли дождями в горах, грязе-каменный поток прошёл по нескольким улицам, запрудил их и в нескольких местах перекрыл Кабульскую автотрассу плотинами высотой до 1,5–2 метра. Движение было приостановлено, и бульдозерами пришлось долго расчищать трассу и улицы.
Но крепче всего засели в памяти обстрелы мятежниками Чарикара. В июле-сентябре 1983 года обстрелы города из миномётов велись почти ежедневно, за день на город падало от нескольких штук до нескольких десятков мин. Они попадали то в дом, то в школу, то в мечеть, рвались на улицах, в расположении царандоя. Получали ранение, гибли не только солдаты, но прежде всего мирные люди, дети. Мы, советники, ездили тогда в Чарикар на открытом БТР-40, сделанном на базе машины времён Отечественной войны ЗИС-5 и, проезжая по центральной улице, видели, как мина упала и разорвалась прямо на базаре. Методичные миномётные обстрелы изнуряли, деморализовывали и население, и власти, и нас.
Что мы могли им противопоставить? Стреляли в ответ из миномётов. Иногда провинциальное руководство ездило вместе со мной в советские части, просило применить артиллерию для подавления миномётных точек противника, некоторые из таких просьб удовлетворялись. Но вся эта стрельба была малоэффективной. Когда начинался обстрел города, оперативники посылали своих людей в зелёную зону, разузнавали, откуда ведётся огонь, и мы потом вели туда ответный огонь, но, думаю, он почти на все 100 % был бесполезным. Дело в том, что партизаны часто меняли огневые позиции, перевозя миномёт на ишаке либо автомашине. Так что к нашей стрельбе полностью подходил суворовский афоризм «Пуля — дура», партизаны же были в лучшем положений — их целью был город, здесь даже и «дура» куда-нибудь, да попадала.
Читать дальше