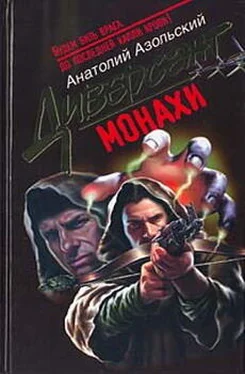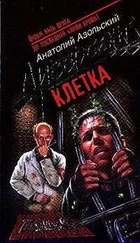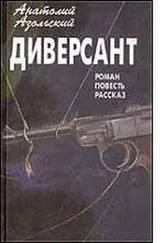Рука Миллнза углубилась в карман пиджака, пальцы бережно подержали чек, и Бузгалин узнал его. Год назад в Калифорнийской школе психиатров, столь симпатичной Анне, умер основатель целого направления, стал создаваться фонд его памяти, Анна и выписала чек на полторы тысячи, Москве решено было не отчитываться, посыпались бы вопросы, на которые отвечать муторно. Теперь этот чек лежал перед Бузгалиным, фонд на корню скупила какая-то мощная фирма, поставив условие: ни цента со стороны.
Бузгалин придвинул его к Миллнзу.
— Оставьте его у себя. На память.
Тот благодарно опустил голову. Положил чек в портмоне. Достал книжку, выписал на ту же сумму чек, перекочевавший в карман Бузгалина. И вновь предложил собеседникам слетать в Прагу, не очень надеясь на то, что они согласятся.
Вдруг порывисто поднялся Кустов, протянул Миллнзу руку. Пылко произнес:
— Мы согласны!.. Я тоже знал супругу мистера Эдвардса, это — изумительный человек!
— Визы, — напомнил Бузгалин, и это прозвучало отказом: американский паспорт — универсальная отмычка, ключ, подходящий ко многим дверям, но не к тем, за которыми соцлагерь.
— Я помогу вам получить визы, — сказал Миллнз. — Не более суток придется ждать…
Три венка полетели в воду, катер описал круг над местом, где перевернулся паром… На берегу Миллнз обнял, совсем по-европейски, Бузгалина и Кустова; визитные карточки предложены не были, Френсис Миллнз стал расчетливым в знакомствах. Через три часа он улетел в Токио, его проводили и стали гадать, как добраться до Праги. Об аэрофлотовском рейсе лучше и не заикаться; самолет шел в Москву через Карачи, но чешская виза не давала транзита; билеты взяли до Рима, и, видимо, настала очередь Бузгалина возвращаться, как Кустову, к истокам, скользить по кругу до точки, совпадавшей с исходной: там, в Риме, можно остановиться хотя бы на сутки в отеле, откуда он делал разбег и перелетал через Атлантику. До самолета — сутки, Кустов впал в глубокую задумчивость, из которой выходил для расспросов об Анне и все больше и больше пригорюнивался. Однажды учудил: появился вдруг в темных очках, согбенный, при ходьбе опирался на диковинную палку, и когда Бузгалин присмотрелся, то в некотором испуге отшатнулся, потому что палка была как у того фермера в аэропорту Эсейса. Недолго, правда, побыл Кустов в обличье убийцы спецназначения, палку забросил на шкаф, очки разломал. Потащил Бузгалина на католическое и лютеранское кладбища, хотя труп той, которую Малецкий назвал нужным именем, так и не был выловлен, сумочку с документами миссис Энн Эдвардс пригнала к берегу волна. Ноги привели его к могиле, русской могиле, фамилия, правда, не совсем русская, но на камне высечено: «Поставлено иждивением императорского русского консульства». Долго и безмолвно стоял перед нею, скорбно опустив голову, хотел было подозвать Бузгалина, но передумал и презрительно махнул рукой — что, мол, с тебя, нехристя, взять!.. Мозг его постепенно восстанавливался, леса и равнины заполнялись менее злобными и опасливыми существами, за буйными играми волчат с косулями наблюдали сверху хохочущие макаки; в листве и кронах запрятались птеродактили, мастодонты вымерли, динозавры пыжились, не желая исчезать; людей стало больше, но они никак не хотели узнаваться, не хватало каких-то мелочей, тех особинок, которые отличают в полутьме одного человека от другого, — букашки не приживались к лесной почве, разные мухи, тараканы, осы, муравьи, полевые мыши и прочая мелюзга, для опознания которой Кустов часами таращил глаза на снующий люд в холле «Индонезии», пялился на торговцев фруктами; однажды приперся к мечети и едва не превратился в того кривоногого идиотика, который пугал его в Лиме: челюсть отвисла, слюни вот-вот потекут к подбородку — так увлечен был жанровой картинкой, привычной каждому жителю Джакарты, но не европейцу. А у входа в мечеть высилась гора обуви, окруженная толпой мальчишек: дети стерегли ботинки, босоножки и туфли родителей, пришедших поклоняться Аллаху, — ребятишки в молитвенном смирении взирали на холм из кожи и текстиля. Пораженный виденным, Кустов промолвил вдруг отчетливо и по-русски: «Бугульма!»
В гостинице же учинил Бузгалину чуткий допрос: что же побудило или заставило его, американского гражданина, предавать свою страну?
— Негр, — ответил после долгого раздумья Бузгалин. — Старый негр, приставленный к саксофону и ломбарду… В Новом Орлеане не бывал? — Взмах руки Кустова означал: где только не приходилось, разве упомнишь… — Пивная там у въезда в доки, рядом с нею — ломбард, и на ступенях его — старый негр в отрепьях, но — цилиндр и саксофон при нем. Нанят ли, отвоевал ли место на ступенях — не знаю. Стоит и играет. Играет и стоит. Мимо него люди несут пожитки, а он встречает и провожает их, он приветствует и скорбит… Мелодиями саксофона. Разные мелодии. Обрывки их, намеки на них, порою обозначения только, несколько нот — и достаточно, люди покачивают головами, будто признавая: да, это то, что надо… Сам я ни черта в музыке не смыслю, и вот привел я однажды знатока, профессора, дававшего уроки восходящим оперным звездам, профессор полчаса слушал и через сутки сказал мне, в чем секрет. В репертуаре негра — всего двенадцать мелодий, архетипический набор звуков, так выразился профессор. Те, которые созданы веками и которые навсегда останутся с людьми, которые всегда внутри людей, стоит только напомнить им начальные ноты… И люди, все люди понимали негра, не только я таскался к этому ломбарду внимать негру, все, понимаешь — все! Вот тогда-то я и подумал: самое лучшее в этом мире должно принадлежать всем! Всем, а не одиночкам. Не богатым, не бедным, а всем людям.
Читать дальше