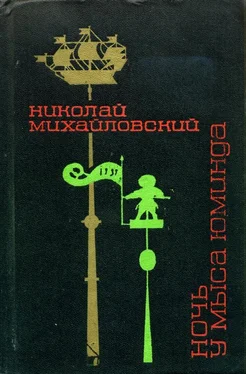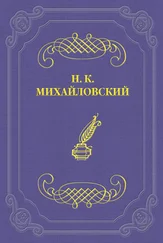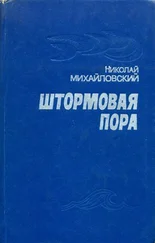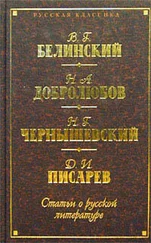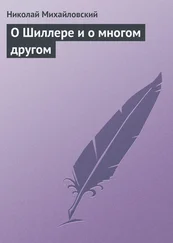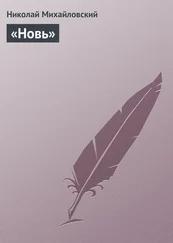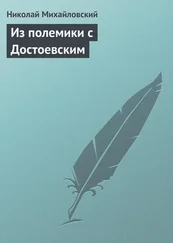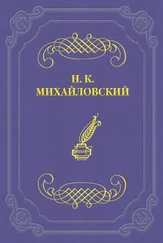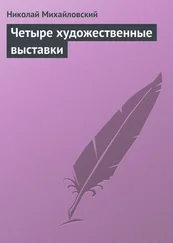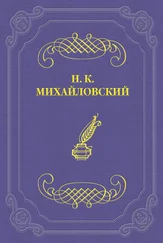Мы чтили память погибших наших товарищей: поэта Алексея Лебедева — штурмана подводной лодки, не вернувшегося из боевого похода, и Иоганна Зельцера, в ту пору уже известного драматурга, редактора газеты «Маратовец», в трагический момент оказавшегося в боевой рубке «Марата» и найденного уже после войны, когда затонувшую часть корабля подняли и в кармане одного неопознанного моряка нашли членский билет Союза писателей.
Мы потеряли многих друзей. Оставшиеся в живых продолжали сражаться своим оружием.
Наша коллективная работа была рождена большой дружбой, чувством локтя, тем поистине морским братством, которое проявилось в дни самых тяжелых испытаний воли и духа.
«Я хочу, чтобы группа была спаянной, дружной… За службой никогда не должна пропадать человеческая писательская душа. Революция имеет смысл только как дело человечности, простоты, ясности и дружбы» — это строки из дневника Вишневского. Он так писал, так мыслил и делал все возможное, чтобы морское братство не угасало.
В нашей группе царила деловая атмосфера. Дружба не мешала бригадному комиссару Вишневскому строго и требовательно относиться к каждому из нас, а нам — подчиняться воинской субординации, не забывая, что Всеволод Витальевич наш начальник и, стало быть, его поручения, данные в мягкой, дружеской форме, следует считать приказом.
Сегодня, перелистывая «Правду» и читая фронтовые корреспонденции, я вспоминаю, как они рождались.
Нередко наши материалы появлялись в «Правде» за двумя и даже за тремя подписями: Вс. Вишневский, Н. Михайловский, А. Тарасенков. Коллективная работа была продиктована самой жизнью, особенностями обстановки тех дней, когда фронт борьбы с каждым днем ширился и один человек не мог охватить события, происходившие на многих участках битвы. Горячих мест слишком много — на флоте, в авиации, на сухопутном фронте. Мы там бывали. Но даже при этом условии трудно было нарисовать общую картину жизни фронтового Ленинграда. И потому, возвращаясь с разных участков фронта, мы нередко собирались у Вишневского, рассказывали, где что видели, выкладывали на стол записи в блокнотах. И тут вырисовывалась тема очередной нашей коллективной корреспонденции. Она детально обсуждалась, а затем кто-то из нас — я или Тарасенков — делал первоначальный набросок. После рукопись передавалась Всеволоду Витальевичу — он читал, что-то выбрасывал, добавлял какие-то факты и ювелирно обрабатывал все от первой до последней строки…
Каждая наша корреспонденция либо очерк из фронтового Ленинграда, опубликованные в ту пору на страницах «Правды», имеют свою историю.
«Ветер гонит ледяную волну. Заморозки ударили по траве и лесам, первым льдом покрылись болотца и канавы на прибрежном фронте. Но ярче огонь в сердцах моряков. Родина-мать, балтийцы идут за тебя отряд за отрядом…»
Это начало корреспонденции «На подступах к городу Ленина» о том, как фашисты два месяца штурмовали ленинградские укрепления и в конечном итоге вынуждены были признать: «Они лучше линии Мажино». Но дело было, конечно, не в укреплениях. Стойкость и выдержка людей имели решающее значение. Таких людей, как командир бронекатера лейтенант Чудов. Попал под перекрестный огонь вражеских батарей, вел с ними бой. Кончилось горючее, и немцы попытались захватить катер. Чудов приказал экипажу покинуть катер. Остался один и стрелял из пушки, затем перешел на автомат. Когда положение стало совсем безвыходным, он открыл клапаны, затопил катер, а сам вплавь добирался до своих…
Судьба свела нас с Чудовым, и он стал главным героем нашей корреспонденции.
После опубликования очерка начался поток писем на Балтику в адрес лейтенанта Чудова, который, лишившись корабля, продолжал сражаться на сухопутном фронте…
Вишневский был ярым противником сухости и казенщины, приучая нас писать о войне живо и занимательно. Он любил пейзаж, детали обстановки, умел находить нужные слова для передачи чувств, для создания неповторимых образов…
«В ранний утренний час над Финским заливом стоит холодный туман, сквозь который проступают контуры Кронштадта с его маяками, мачтами кораблей, собором, гранитными стенками гаваней» — так начиналась наша корреспонденция о Кронштадте.
Вишневский щурится, читая эти строки, задерживается на них, вижу: ему чего-то не хватает. Он несколькими штрихами дорисовывает картину:
«Дует острый нордовый ветер. В нынешнем году рано налетела первая снежная пурга. Пенистые валы, один за другим, дробятся о гранит и бетон. Белые узоры украсили деревья старинного Петровского парка. Наступает русская зима. Моряки в сапогах, ушанках и шинелях — одеты ладно, тепло. Новый отряд проходит с песней сквозь снежный вихрь…»
Читать дальше