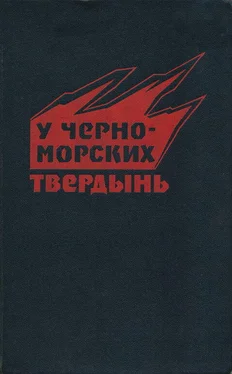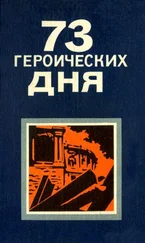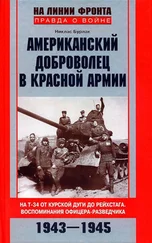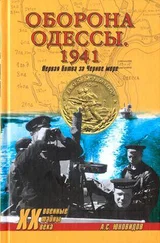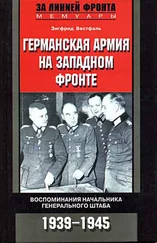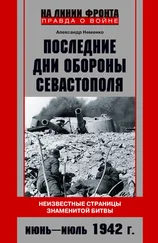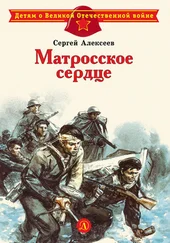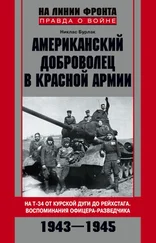Части Приморской армии выходили к Севастополю измотанные тяжелыми боями и трудным маршем через горы. Но все понимали, что сейчас не может быть никакой передышки. Войска с ходу занимали назначенные нм рубежи.
Нам же предстояло опять заново строить все тыловое хозяйство. А прежде всего нужно было обеспечить людям горячую пищу, заменить негодное обмундирование (переход через горы давал о себе знать), снабдить части недостававшим вооружением.
Ресурсы наши были весьма ограниченными. Но вскоре начали поступать оружие, боеприпасы, горючее, продовольствие и медикаменты с Большой земли. С переходом морских бригад и полков в подчинение Приморской армии нам передали некоторые флотские тыловые службы, что было существенным подспорьем. Полным ходом работали наши севастопольские мастерские. Они уже освоили изготовление полевых кухонь и печей, термосов, конных повозок, кружек и ложек… А потом стали выпускать гранатометы, гранаты и еще многое другое.
Быть может, мы организовали тыл Приморской армии в Севастополе в чем‑то и не по–уставному. Но во всяком случае, с учетом своего одесского опыта, который весьма пригодился в схожих условиях другого приморского города–плацдарма.
Под Одессой мы столкнулись, например, с нехваткой транспортных средств для доставки различных грузов в части и эвакуации оттуда раненых. При дневных перевозках мы несли ощутимые потери от налетов авиации. Размещение войсковых тылов непосредственно за самими частями демаскировало их. Извлекая из всего этого уроки, мы в конце концов разместили дивизионные тылы за второй линией главного рубежа обороны и даже за рубежом прикрытия города, то есть практически на его окраинах. А все перевозки централизовали, перенесли их на ночное время и производили по схеме армия — батальон, минуя дивизионное и полковое звенья. Такая организация работы благоприятно сказывалась на обеспечении войск, транспорт использовался наиболее рационально, и его стало хватать. К тому же размещение тылов дивизий на одесских окраинах, в садах и балках, позволяло лучше их маскировать. Потери, как в людях, так и в материальных ценностях, стали совершенно незначительными.
В Севастополе управление тыла Приморской армии окончательно обосновалось на берегу одной из бухт. Лучшее размещение трудно было и представить. Рядом, у причалов, находились обширные складские помещения. Склады пришлось сделать смешанными — чтобы без последующей перегрузки принимать с кораблей и боеприпасы, и продовольствие, и другие грузы. Мы часто вспоминали добрым словом флотских товарищей, которые в мирное время соорудили удобные, хорошо укрытые склады–казематы.
Автобатальон подвоза, разбитый на колонны по направлениям, разместился на окраинах города, как и войсковые тылы (для них в большинстве случаев находились естественные укрытия). Все перевозки производились, как правило, ночью. И несмотря на то что потом фашистская авиация совершала ежедневные налеты, в том числе и на тылы, потери наших подразделений и служб были, как и в Одессе, невелики. И людей, и имущество мы теряли главным образом на причалах, во время разгрузки прибывавших с Кавказа кораблей. Но об этом — дальше.
Настал конец ноября, на фронте — после того как была сорвана первая попытка врага овладеть Севастополем — наступило некоторое затишье. Приближались и к Крыму зимние холода. Командующий армией вызвал меня и спросил, что я думаю о теплом обмундировании, есть ли виды на получение его из центра. Я ответил, что централизованный завоз теплого обмундирования Приморской армии, как действующей на юге, не планируется. Но обмундирование будет. Собственно говоря, оно уже тут, в Севастополе, — из Новороссийска прибыли 80 тысяч комплектов теплого белья, ватных брюк и курток, шапок–ушанок и теплых портянок. Этого хватит и для морских частей, действующих вместе с приморцами на суше.
Надо признаться, что пошив теплого обмундирования из льняной ткани, вывезенной из Одессы, а потом и из другого материала был маленькой тайной тыловиков. Мы никому об этом не говорили: сперва потому, что не знали — сумеем ли все организовать, как задумали, а потом — просто потому, что хотели преподнести это бойцам и командованию в виде сюрприза. Нужно было видеть радость Ивана Ефимовича Петрова, когда он узнал, как обстоит с этим дело.
К началу декабря весь личный состав армии получил теплую одежду, и у нас остался даже кое–какой запас. Лучших работников мастерских, обеспечивших срочный пошив обмундирования, Военный совет армии наградил медалями.
Читать дальше