Те, что сели раньше, заканчивают свой обед, и когда они доедают последние куски, дверь уборной тихо отворяется. Чья-то голова, внимательным взглядом осмотрев нас, тут же скрывается.
Мои соседи уходят, унося в стаканах, которые они запихивают в карманы, пюре и котлету. Вздыхающая старушка, положив свою книгу рядом с моим супом, вежливо спрашивает:
— Свободно?
— Да.
Я ем суп. В его прозрачной, пахнущей капустой жиже, плавают на дне крупинки перловой крупы и кусочки моркови. Постное масло, которое налили в этот суп, издает приятный запах. Я ем с аппетитом. Суп горячий, и, наполняя мой желудок, он создает иллюзию сытости. Я думаю о том, что мог бы съесть десять тарелок такого… В это время дверь напротив раскрывается, и я вижу седую грязную голову.
— Милая дама, — слышим мы шепот, — и ты, мальчик! Не доедайте, пожалуйста, если можете… и не уносите тарелок… Хоть каплю супа! Умоляю и гран мерси! Миль пардон и гран мерси! Силь ву пле!
И дверь уборной захлопывается в тот самый момент, когда дежурная, косясь на нее, проходит мимо нашего столика, придирчиво оглядывая наш угол.
Моя старушка шепчет:
— Раньше они стояли за столиками… эти старики. Теперь они прячутся там. О боже! — Зашептав что-то еще тише, она склоняется низко над тарелкой. Не доев несколько ложек, ставит свою тарелку на самый краешек стола и оглядывает зал.
А там дежурные, пристав к худому жалкому человеку, что-то требуют у него. Он, упрямо мотая головой, показывает им какую-то бумагу, и до меня доносятся его слова:
— …из больницы… из больницы, я вам говорю…
— А нам ваша больница не указка!
И тут из дверей уборной выбегает маленький сгорбленный старичок в длинном пальто старинного материала с бархатным воротником. Мигом схватив тарелку с нашего столика, он исчезает, как проваливается.
Я вынимаю стакан и начинаю накладывать в него картошку. Старушка кивком указывает мне на стену. «Уносить еду из столовой в банках, пакетах, стаканах и иной посуде воспрещается. Виновные будут открепляться. Администрация».
Я, также кивком, благодарю ее и ставлю под ее одобрительным взглядом стакан в карман своего пальто, в то же время наблюдая за дежурными, отпустившими старика, который, размахивая своей бумажкой, пытается втереться в очередь у самых окошечек, приговаривая: «Из больницы, из больницы…»
Я продолжаю накладывать ложкой картошку в стакан, стараясь не уронить ни крошки. Старушка внимательно следит за моей работой и, переходя от непонятного шепота на членораздельную речь, сообщает мне:
— Будьте осторожны, молодой человек! У вас могут отнять этот стакан там, — она кивает головой в сторону дверей, — Боже мой! Боже мой! Я пережила голод в империалистическую войну, в гражданскую, в Поволжье! Я уже думала, что его не будет никогда, но — увы! — как всегда, ошиблась! Но скоро, — замечает она бодро, — я не буду больше испытывать всего этого — я умру.
Первый раз за много дней я сыт. В вагоне метро, возвращаясь домой, я стою, крепко прижатый к дверям, и плотно затыкаю карман рукавицей, чтобы запах пюре и котлеты не привлекал ко мне внимания.
Темная обтрепанная одежда, серые худые лица, у многих в руках авоськи, в которых видны кастрюли или банки с обедами. Они, так же, как и я, не доев, везут их домой… тем, кто ждет их сейчас там, сидя в нетопленных громадных домах без света и воды, за темными занавешенными окнами при свете коптилок. Из авосек торчат щепки и куски досок. Это — наше топливо, и от этих кусочков дерева часто зависит наша жизнь. В вагоне — старики, женщины, дети. Мужчин нет. А если они и есть, они сидят, а не стоят. Это — или старики, или инвалиды. Один из них сидит наискось от меня, безучастно держа свою голову так прямо, как это делают только слепые. Его глаза закрыты черными очками, но сбоку я вижу темные ямы вместо глаз; все лицо слепого усеяно синими крупинками пороха. Руки его лежат на палочке.
Лязгая колесами, поезд минует одну станцию за другой, выпуская и впуская пассажиров. Вот и моя станция. Я выхожу и вижу, что молчаливая толпа, высыпавшая из метро, не расходится, а стоит длинной вереницей на обочине дороги и смотрит.
С синими лучами из узких щелей фар движутся высокие американские грузовики; на них стоят наклонные конструкции, накрытые брезентом. Образуя длинную колонну, машины, урча, движутся мимо нас, и мы понимаем, что это — «катюши»!
Урчат и урчат машины. Их мощные моторы легко преодолевают мешанину из грязи и снега, и когда они исчезают в темных переплетах Крымского моста, я вспоминаю первые дни войны, когда мимо нас артиллерию везли только лошади, а красноармейцы шли пешком…
Читать дальше
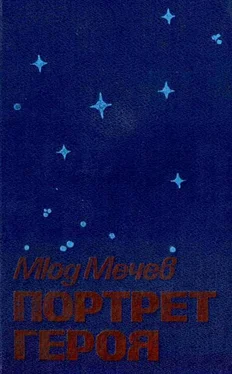
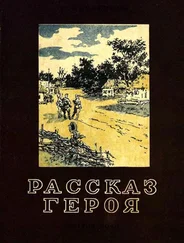

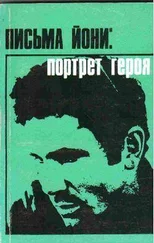


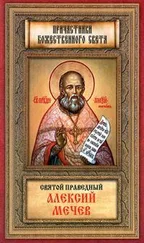

![Денис Куприянов - Дневник Аниме Героя [СИ]](/books/413521/denis-kupriyanov-dnevnik-anime-geroya-si-thumb.webp)


