4
Если б Василий Петрович мог сразу сесть за чертежную доску, все бы сложилось иначе. Обида породила бы упорство, а за ним пришло бы успокоение. В развалинах родной город, погибли все его здания. Но он чувствовал бы их в умении искать и находить нужное. Погибшее возрождалось бы в новом. Однако в сумятице первых дней, в мелочных заботах, в спорах за мебель, будущих сотрудников, жилплощадь и продуктовые карточки для них проектная работа казалась далекой, как никогда. К тому же содружество, сложившееся ранее, начало распадаться: у людей вдруг появилось много личных и самых неотложных дел.
Семья его оставалась в Москве. В Гомеле Василий Петрович жил тоже один. Но там он чувствовал себя как на станции. В Минске же он был дома — здесь надо было жить сегодня, завтра, послезавтра. А тут еще наваждение — как бы назло, воображение стала будоражить Алла. Это было дико, несуразно, да поделать что-нибудь с этим оказалось выше сил. И Василий Петрович, который вообще трудно сходился с людьми и приобретал друзей, почувствовал, — жизнь как-то ненужно усложнилась и ему необходима поддержка.
Однако искал он ее тоже нелепо. Стал избегать Понтусов, добыл где-то фотографию детского приемника и обратился в редакцию газеты с просьбой напечатать находку. Для чего? Он и сам не представлял — возможно, чтоб сохранить хотя бы какой-нибудь след о былой работе. А может быть, чтоб утвердить и собственную веру в себя. У него появилась потребность бедовать над своими потерями. Его тянуло к руинам.
Бродя возле развалин школы, он как-то встретился с Зимчуком. Друг друга они не знали, но поздоровались. Став рядом, начали рассматривать изувеченную коробку.
— Ваша? — догадался Зимчук.
— Была моя, — признался Василий Петрович, боясь, что разговор на этом оборвется. — А вы чего здесь? Тоже переживаете? Не с детьми ли что случилось?
— У меня? Нет. Вот с городским хозяйством знакомлюсь.
— С кладбищем, скажите…
Несколько дней назад Зимчук с Чрезвычайной комиссией выезжал на расследование в Тростенец, где, как установили, было расстреляно и сожжено сто двадцать тысяч человек. Потому слова о кладбище напомнили ему как раз это жуткое место. Нет, даже не напомнили. Виденное жило в нем и без этого. Но теперь оно опять как бы заслонило все… Лагерь размещался недалеко от города, возле когда-то веселой, зеленой деревушки. Ехать туда надо было по Могилевскому шоссе, по сторонам которого росли молодые приветливые березки. И каждый раз, когда Зимчук вот так вспоминал Тростенец, в его воображении вставали кошмарные печи, штабеля обугленных бревен, длинные, как траншеи, рвы-могилы и это холмистое шоссе с молодыми березками…
Печей не хватало, и, чтобы скрыть свои преступления, гитлеровцы сжигали трупы на огромных кострах, подпаливая бревна термитными бомбами и время от времени поворачивая трупы баграми. Обгорелые трупы с пулевыми отверстиями в затылке — и трепетные, залитые солнцем березки…
— Какое же это кладбище? — тихо спросил он. — Вы, вероятно, не видели настоящих кладбищ. А кроме того, у победителей города вряд ли умирают. Вам это известно не хуже, чем мне. Правда?
Слова Зимчука обидели Василия Петровича. Недавно упрекал Барушка, сейчас упрекает этот… Но, раздражаясь, он в то же время оставался уверенным, что имеет особое право на сочувствие и даже больше — его обязаны утешать.
— Есть раны, которые не залечиваются. — сказал он упрямо и понуро.
— Не знаю, но, по-моему, как-то не с руки теперь жить только своим. Пойдемте-ка, если хотите, я покажу сам одну вещь, благо тут недалеко…
Что он мог показать?
Но самое участие его было по душе, и Василий Петрович, вспомнив разговор с Барушкой о немецком генеральном плане, примирительно согласился:
— Сделайте милость…
Они миновали несколько кварталов, потом узкой тропинкой вышли на Советскую, и, свернув на улицу Володарского, спустились к коробке, что осталась от здания лечебницы.
— Ну, вот! — показал Зимчук. — Видите?
— Почти нет.
— А меня, например, радует и такое. Здесь главное — начать. Завтра вот и саперы за мост через Свислочь принимаются.
Внутри и вокруг коробки ходили люди, осматривали стены, что-то показывали друг другу, делали пометки в записных книжках. На площадке лестничной клетки стоял Понтус. Подбоченясь одной рукой, он не спеша прикуривал у солидного, в соломенной шляпе, мужчины. Потом важно кивнул ему, заметил подошедших и, высоко подняв руку с папиросой, как с трибуны, помахал им.
Читать дальше
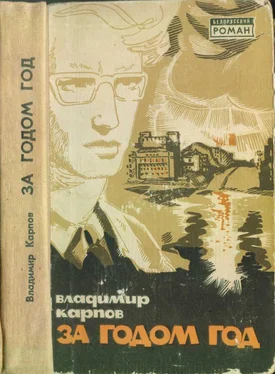



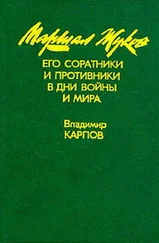
![Владимир Карпов - Признание в ненависти и любви [Рассказы и воспоминания]](/books/32616/vladimir-karpov-priznanie-v-nenavisti-i-lyubvi-ras-thumb.webp)

