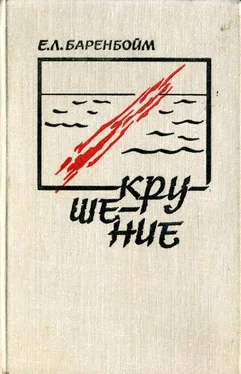В Стретенской церкви благовестили колокола. И от мыслей, и от навевавшего печаль колокольного звона по щекам Марии катились слезы.
Май начался теплыми летними грозами. В многочисленных садах и парках буйно разгулялась сирень. Ее запахи проникали сквозь открытую форточку и в мастерскую Марии, вызывая смутное томление и беспокойство. Захотелось вдруг бросить всю недоделанную, разом опостылевшую работу, выгнать сидящих на стульях заказчиц и убежать в Пролетарский сад или на Владимирскую горку, где много гуляющих, играет музыка и в темных уголках целуются влюбленные парочки. Тревожили и доносящиеся с улицы звуки. Веселое щебетанье птиц, собачий лай, пение, какие-то по особому звонкие голоса.
Живший в доме напротив актер, стоя на тротуаре, звал свою жену. В Киеве была в ходу эта манера южных городов. Каждый гость, прежде чем подняться, сообщал о своем приходе криком. Именно так, с улицы в дом и наоборот, родители беседовали с детьми, общались родственники и знакомые. Никто не стеснялся, что его слышит вся улица. Актер в бархатной блузе и галстуке бабочкой звал:
— Горлинка! Горлинка!
Наконец, с балкона нежно откликнулась жена:
— Чего орешь, ненормальный? Не знаешь, что я мою голову?
— На углу Нестеровской выбросили рыбу.
— Лещ? Так возьми три фунта.
Жена актера беременела каждый год. Мало кто знал, как ее зовут. Все соседи и окрестные мальчишки называли ее кратко: «Живот».
Именно в этот беспокойный предвечерний час появился Юлиан.
Полгода назад он забежал на минутку сообщить, что уезжает в Среднюю Азию с концертной бригадой. Оказывается, он неплохо играл на баяне. Поцеловал Марию так, что у нее голова закружилась. И исчез.
Мария обрадовалась его приходу. Юлиан подождал на улице, пока она отпустит заказчиц и переоденется. Потом они пошли в кино. Мария надела собственноручно вышитую яркими цветами белую блузку, мониста, вишневого бархата жакетку. Когда шла, ловила на себе любопытные взгляды встречных мужчин.
— Ишь глаза пялят, фармазоны, — ворчал Юлиан. — За это можно и по роже схлопотать.
Второй месяц в «Лире» шла кинокомедия с участием Гарри Ллойда. Но по-прежнему билетов в кассе не было. Их еще с утра скупали спекулянты. У входа в кинематограф собралась большая толпа, Люди грызли семечки, сосали леденцы на длинных деревянных палочках, курили тонкие папиросы «Ира» и «Кальян».
Продавал папиросы и одновременно спекулировал билетами хромой парень по кличке Скорпион. У него были слабые ноги, но сильные, как клещи, руки. Мальчишки боялись близко подходить к нему. Он любил схватить, их за руку и мучить. У Скорпиона Юлиан купил два билета.
— Достал? — спросила Мария.
— Спекулянты проклятые, — с досадой ответил Юлиан. — Повылезали из всех дыр, словно клопы. Вдвойне дерут.
— Будет тебе, — засмеялась Мария. — Кавалерам не полагается про цены говорить. Расскажи лучше про что-нибудь возвышенное.
Она помнила то, что было написано в книге «Наиболее прекрасные страницы любви».
— Про что? — удивился Юлиан. — Может быть, ты меня принимаешь за графа Монте-Кристо? Так, запомни, я никто. Хочешь знать — сам себя не уважаю. Болтаюсь, как навоз в проруби. Ни специальности, ни работы, ни жилья.
— Глупый потому что, — сказала Мария, прижимаясь к Юлиану. Он напоминал ей парубка с цветной журнальной литографии, что висела в комнате Фени на станции Бирзуле.
До сих пор Мария боялась мужчин. Их грубых ласк, последствий встреч, людского неодобрения. Но втайне мечтала о них. После кино Юлиан проводил ее домой.
— В общежитие прогонишь? — спросил он.
Ответила сурово, как еще в Бирзуле научилась:
— А ты как думал?
Но, когда дверь отворила, стояла, не спешила заходить. Юлиан обнял Марию и вместе с ней вошел в мастерскую.
Как она и предполагала, все оказалось совсем не так, как об этом было написано в фениной книге о любви. Юлиан не читал ей стихов, не целовал пальцы, не побежал утром на Сенной базар за цветами. От него пахло дегтем и керосином. И хотя она понимала, что он бедный парень, к тому же оставшийся без работы, и что моется он дешевым стиральным мылом, которое делают из собачьего жира и дегтя — уснула Мария разочарованная.
Проснулась она посреди ночи от странного похрустывания. Юлиана рядом не было. В чуть светлеющем прямоугольнике окна она увидела его тонкую фигуру. Склонившись над кастрюлей, он жадно глотал недоеденную вчера картошку, макал ее в крупную, с горох, соль. Маруся лежала молча, не шевелясь, боясь спугнуть его. Смех так и разбирал ее. Один раз не удержалась, прыснула, не успела спрятаться под одеяло. «Ест будто поросенок, который боится что вот-вот подойдет большая свинья и отгонит его в сторону, — думала она. — Вот наголодался, бедолага». Но было и другое. Впервые за последние годы в душе ее пробуждалось что-то еще смутное, непонятное, о существовании чего она даже не подозревала. Желание еще раз почувствовать на своих губах вкус его поцелуев, жалость к его бедности и неустроенности, стремление сделать Юлиану что-то хорошее.
Читать дальше