И стыд, и внезапный, неосознанный еще и оттого непереносимый вдвойне, задохнулся, заворочался вместе с сердцем, булыжником затолкался в груди. Господи, да что же это!.. Лет семи парнишка протягивает мешочек — из завернутого рукава взрослой телогрейки ручонка как сизая дряблая ветка… Лицо Дмитрия Егоровича перекосило, правый глаз, вытаращился, стал вспыхивать стекленеющей жутью, болью…
— Стой! — Дмитрий Егорович схватил парнишку за плечи. Задыхаясь, отворачивая в сторону страшное свое лицо, быстро, лихорадочно спрашивал: — Кто… кто-кто-кто-тебя-послал? Сынок? Кто?
— Мамка.
— А где? откуда зерно?.. Говори, не бойся. Ну! — легонько встряхнул — голова парнишки в кепке как скуластый подсолнух мотнулась.
— Дали… в правлении…
— Когда?!
— Вчерась, — прошептал парнишка.
Стеснилось снова в груди, задавило. «Да ведь голод в деревне. Повальный голод! Как же теперь…»
Поникше, виновато стоял парнишка, не решаясь уйти.
Вдруг Дмитрий Егорович стал совать ему мешочек. Обратно.
— На, на! Не бойся, сынок, бери! Домой скорей. И смолоть, смолоть! Сегодня же! Слышишь? И всем скажи!.. Давай, дуй!
Парнишка вяло побежал, как подбитая птица замахивая рукавом и полой телогрейки. И Дмитрий Егорович, не в силах оторвать от него глаза, давясь слезами, странно как-то — неуверенно и отрывисто — подергивал, помахивал ему рукой. Как крестил его, крестил: сынок… я… я… я все для тебя… я… сынок!..
Медленно, словно только б не стоять на месте, полуторка отъезжала от деревни. Отработав так в неуверенности километра два, остановилась совсем.
Перед мертвым полем в серых снеговых проплешинах, как посланцы голода с пустыми корзинами, сбились в кучу, растерялись тополя. Позади, взятая на небо, отрешенно, тихо бредила деревня…
В голове красно кололо, вспыхивало. Знобясь, Дмитрий Егорович придавленно сидел перед мотающимся «дворником», и работающий вхолостую мотор вытряхивал в истерзанное сознание ждущие чего-то, раскидистые, ни за что не зацепливые мысли…
— Егорыч, может в Киселево? — осторожно подсказал Иван Зиновиевич.
Дмитрий Егорович поднял голову, перевел дух.
— Да, да, Зиновиеч, давай в Киселево. Там поймут. Иванов — человек. Давай, родной, побыстрей, давай…
Иван Зиновиевич с места рванул машину.
Часа через два примчали мешок пшеницы, сбросили его на крыльцо склада, развернулись и уехали.
Даже снаружи этот вокзал не казался таким огромным, каким был внутри. Словно осадив для разбега глубоко назад, он стремительно взбегал по широкой каменной лестнице на второй, открытый этаж и тянулся к высоченным окнам, к свету. Внизу же, придавленным и остановленным, наконец, табором — люди. Но табору без движения, без дороги — не жизнь, и вот стоит, топчется на месте, сидит, лежит на длинных деревянных диванах — осоловевший, измученный. Гул голосов серый, разреженный, как пар.
— Митя, не отставай! Держись за меня! — понукала разинувшего рот Митьку Катя. Людской поток, вынесший их из подземного туннеля, растекался по всему вокзалу. Люди облегченно скидывали с плеч, ставили на пол вещи, но сразу как-то растерянно застывали. Точно на обширное, незнакомое болото вышли — и завязли: куда дальше? куда?..
— Митя, держись, я тебе сказала! — Катя с вещами упорно проталкивалась к кассам, которые сразу заприметила, как только вышли из туннеля. «Сперва — билеты, а уж потом — разглядывать все», — рассудительно думала она.
Растянутая вдоль касс толпа не билась, не сражалась, как в Рубцовке, но как-то вежливо и долговременно давилась. Касс много. А в какую? Да и где тут крайнего-то искать?..
— Катя, Катя, сюды! — возле одной из касс подпрыгивала рука и голова Панкрата Никитича. — Сюды, Катя!
Катя помахала в ответ. Нашли Меланью Федо-сеевну, и та встретила их удовлетворенными словами:
— Вона! — кивнула она на супруга, потерянно как-то выглядывающего из очереди. — Настрополи-ла — и, почитай, первый в очереди стоиг. А то б вышагивал опять… Давай вешшички-то да к нему ступай. А то — выглядывает.
Но напрасно Панкрат Никитич сломя голову бежал по туннелю к кассам — поезд Новосибирск — Харьков ушел два часа назад, а на проходящие — билеты не компостировали. Мест не было. Даже в общие вагоны. Вот тебе, бабка, и Юрьев день!
Привокзальную площадь — обширную, утренне-сизовато-дымную — вдоль и поперек прострачивали люди. Дальше площадь и прилегающие улочки втягивала в себя другая улица — более широкая, подпирающая дальней частью асфальтового языка розовато-серебристое небо горизонта, но ближе увязившая себя в тяжелые дома в лепнине, как в торты. С боковых улочек теснились, ярясь и огрызаясь, грузовики и легковые автомобили. Заполошно трелькал, тащил искристую паутинку краснопузоподвешенный трамвай. Огораживаясь пустотой, бежали у обочин лошади с телегами с похмельио-тлеющими мужичками. Как по наждакам, по тротуарам торопливо шаркался густой пешеход. Овисло и слепо, как перед чихом, замерли топольки, будто только на время выпущенные из асфальта. И на целые кварталы лениво потягивалось равнодушное стекло магазинов. А в нем — брошенные, испуганно преломляющиеся — двое провинциалов. Мальчишка с баульчиком и женщина с кирзовой сумкой.
Читать дальше
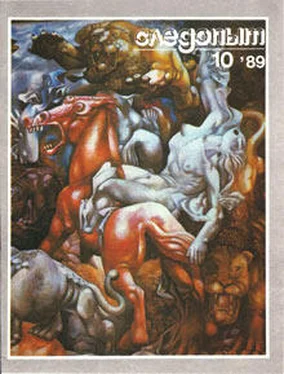


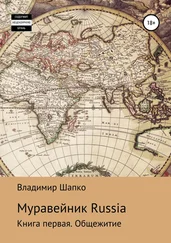

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




