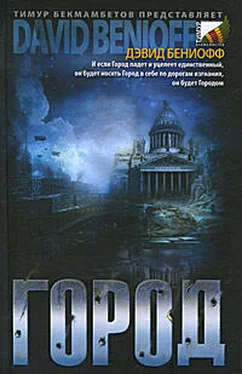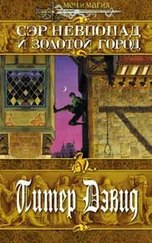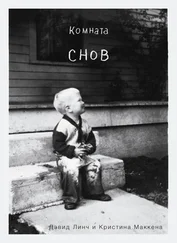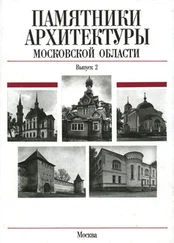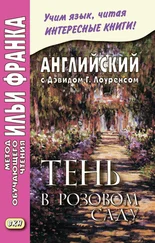— Не был, — наконец ответила Вика. — Но мне все равно нравился.
— Предателя на первом суку надо повесить, — прошептал Коля, чуть сильнее пригнувшись, чтобы голос не разносился далеко. Он злобно вперился взглядом в затылок шпаку. — Я б ему своими руками шею свернул. Я умею.
— Не трогай его, — сказала Вика. — Это неважно.
— Маркову было важно, — сказал я.
Вика искоса глянула на меня и улыбнулась. Не холодно и хищно оскалилась, как раньше. Ее, судя по всему, удивило мое замечание. Как будто клинический дебил вдруг засвистал «К Элизе», идеально попадая в ноты.
— Это правда. А ты странный.
— Почему?
— Он скользкий бесенок, — произнес Коля, нежно ткнув меня кулаком под печень. — Но в шахматы режется — ого-го!
— Почему я странный?
— Марков значения не имеет, — ответила она. — И я тоже. И ты. Имеет значение — победить в этой войне. Вот что главное.
— Нет, — сказал я. — Не согласен. Марков тоже был важен. И я, и ты. Вот поэтому мы и должны победить.
Коля удивленно поднял брови: подумать только, я осмелился противоречить этой маленькой фанатичке.
— А важнее всех я, — шепотом провозгласил он. — Я пишу величайший роман двадцатого века.
— Вы вдвоем как голубки влюбленные, — хмыкнула Вика. — Сами-то понимаете?
Унылая процессия усталых людей вдруг остановилась где-то впереди. Пленные переминались с ноги на ногу и не понимали, почему стоим. Оказалось, один босой красноармеец просто отказался идти дальше. Товарищи, с которыми он попал в плен, упрашивали его и грозили, матерились, а он стоял на снегу, не шевелился и не говорил ни слова. Кто-то попробовал толкнуть его в спину, но все было бесполезно: он уже пришел. Он останется здесь. К нему, размахивая «шмайссерами», бросились охранники, что-то вереща по-своему, и красноармейцы неохотно отступили от обреченного товарища. А он только улыбнулся набегавшим фашистам — и взметнул правую руку вверх, стукнув по ней левой в изгибе локтя в издевательском «зиг-хайле». К счастью, я вовремя отвернулся.
Где-то за час до заката рота остановилась у отвратительного кирпичного сооружения — колхозной школы. Такие строили на субботниках во вторую пятилетку — окна узкие, как средневековые бойницы. Над входом были аккуратно выписаны сталинские слова: «Большевик! Чтобы знать, надо учиться». Кто-то из захватчиков, знавших русский, белой краской намалевал возражение: «Большевика не надо знать, чтобы убить».
Вермахт захватил школу себе под штаб. У входа стояли шесть «кюбельвагенов». Один как раз заправлял из зеленой канистры блондинчик без шапки. На голове у него рос желтый пушок, как у новорожденного цыпленка. На роту эсэсовцев, конвоировавшую пленных, он глянул без интереса.
Офицеры что-то скомандовали, ряды рассыпались — почти все немцы, радостно лопоча и сбрасывая тяжелые ранцы, направились в здание. Там душ — если есть вода — и горячая пища. Остальные автоматчики — примерно взвод, человек сорок, — явно злые от выпавшей на их долю караульной службы, голодные и усталые после целого дня марша по пересеченной местности, по нескончаемым русским лесам, стали загонять нас за дом.
У школы нас ждал немецкий офицер. Он удобно расположился на складном стуле и, попыхивая сигаретой, читал газету. С ленивой улыбочкой поднял голову, будто рад нас видеть, будто пригласил друзей на ужин. Но вот он встал, отложив газету, кивнул и осмотрел наши лица, одежду, состояние обуви. На нем был серый мундир «Ваффен-СС» с зеленой выпушкой. Серая шинель осталась висеть на спинке стула. Вика, шедшая рядом, шепнула мне:
— Айнзацы.
Когда нас выстроили неровными шеренгами, командир айнзацгруппы бросил сигарету в снег и кивнул вялощекому переводчику эсэсовцев. Заговорили они оба по-русски, уверенно, словно похваляясь перед пленными.
— Сколько?
— Девяносто четыре. Нет, девяносто два.
— Да? А что же те, кто не смог быть с нами? Очень хорошо.
Эсэсовец повернулся к нам и пошел вдоль первой шеренги, переводя взгляд с одного пленного на другого. Каждому смотрел прямо в глаза. Просто красавец: фуражка сдвинута на затылок, загорелый лоб открыт, а тонкие усики — как у джазового певца.
— Не бойтесь, — говорил он, прохаживаясь вдоль строя. — Я знаю, вы начитались пропаганды. Коммунисты хотят, чтобы вы думали, будто мы зверье, варвары, хотим вас изничтожить. Но вот я смотрю в ваши лица — и вижу хороших честных рабочих и крестьян. Среди вас есть хоть один большевик?
Читать дальше