Да, я был тогда простым и скромным защитником революции. Неопытным и юным. Еще совсем недавно я носился по Либаве, выменивая на всякую мелочь хлеб у немецких солдат, чтобы хоть чем-то помочь умирающей матери. А когда ее похоронили, мамин брат, мой дядя, забрал меня в Советскую Россию, где уже целый год трудился в Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Он помог мне устроиться в новом месте и сделаться участником величайшего в истории социального переворота.
Вскоре я очутился в Киеве и, вырвавшись из мрака старой жизни, занялся настоящим делом. Мы кого-то расстреливали – товарищам было виднее, кого надо расстреливать, а кого расстреливать не надо, – потом заставляли живых еще арестантов грузить на подводы трупы и вывозили их ночью в парк. Там были вырыты длинные ямы, куда мы сбрасывали мертвецов, посыпая их сверху известью. Потом забрасывали землей.
Они были очень разными, различного возраста, состояния, звания. Купцы, попы, монахи. Студенты и гимназисты. Офицерье, монархисты и прочая контрреволюция по определению. Спекулянты и спекулянтки, наживавшиеся на временных трудностях юных советских республик. Псевдосоциалисты, черносотенцы, мелкобуржуазные националисты. А также несознательный элемент из трудящихся вроде бы классов, выступивший против нас на стороне оголтелой кровавой реакции.
И мы тоже были разные. Латыши, китайцы, два мадьяра, три поляка, один чех. Само собой, евреи. «Это наша революция», – восторженно шептал, сияя карими глазами, мой друг Иосиф Мерман, храбрый и верный товарищ, с особенным рвением уничтожавший черносотенных «интеллигентов». Русские, конечно, тоже тут встречались. Без них в этой стране, как правило, не обходилось. Были пришлые, из центральных губерний, были и местные – с их дурацким говором, которого я, едва научившийся немножко говорить по-русски, в те времена почти не понимал.
В городе нас ненавидели. Нет, они ничего не смели сказать или сделать, но ненависть словно висела в воздухе. Многие ждали белых. Некоторые – петлюровцев, хотя большинство жителей находило их ничем не лучше нас. Кое-кто надеялся на поляков, однако последние не спешили. Но мы любили ходить в этот город, и ненависть нас не пугала. Было ощущение силы и бесконечной правоты, быть может, немного детское, наивное – но нам оно нравилось.
Некоторых мучили кошмары. Со мной подобного не происходило. На то имелись веские причины. Во-первых, я с детства отличался устойчивой нервной системой – благодаря полученному мною воспитанию, исключавшему свойственные русским и евреям истерические наклонности. Во-вторых, я почти не пил и занимался гимнастикой, ежедневно выполняя определенное количество упражнений, предписанных системой Мюллера. Евреи и русские потихоньку хихикали надо мной, но я не обращал на них внимания. Мне было достаточно, что наши, то есть другие латыши, относились ко мне с уважением, хоть я и был самым младшим во взводе, и даже товарищ Лацис однажды объявил мне благодарность. Кто мог подумать тогда, что спустя каких-то двадцать лет его придется тоже… Увы, со временем люди меняются.
Они были очень разными, те, которых нам приходилось расстреливать. Всех запомнить было невозможно. Даже красивых женщин – бывали порой и такие. Да и не стоило запоминать, слишком их было много, между тем как система Мюллера, при всей ее эффективности в смысле сохранения физического здоровья, не гарантировала от ненужных переживаний. Но одного старика, я бы сказал даже старца, я позабыть не сумел.
Он провел в заключении не более суток. Седая борода, сухощавая фигура, подвыцветшие от возраста, но все же живые глаза, а в них бесконечное презрение – к следователям, конвоирам, исполнителям приговора. Его осанка, манера говорить, спокойно сложенные на коленях при допросе руки – словно бы олицетворяли собою то, против чего мы боролись, мерзость и несправедливость подлого старого мира, мира эксплуататоров и эксплуатируемых, обманщиков и обманутых. Даже фамилия у него была какая-то совершенно старорежимная. До революции он служил профессором филологии (что такое филология, я узнал гораздо позже), а теперь обвинялся в великодержавном шовинизме. Еще во время первой революции он членствовал в киевской организации русских националистов и писал злостные брошюрки, направленные против украинской национальной идеи, унижая таким образом национальное достоинство украинских трудящихся. Я плохо разбирался во всех этих делах, однако догадался, что кто-то из местных товарищей еще с тех пор точил на него зуб. Но тогда я не очень хорошо говорил по-русски и лишних вопросов не задавал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

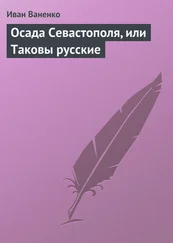
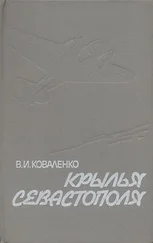



![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1969 № 03 [альманах]](/books/422160/almanah-podvig-podvig-1969-03-almanah-thumb.webp)
![Альманах «Подвиг» - Подвиг, 1981 № 04 [альманах]](/books/422161/almanah-podvig-podvig-1981-04-almanah-thumb.webp)




