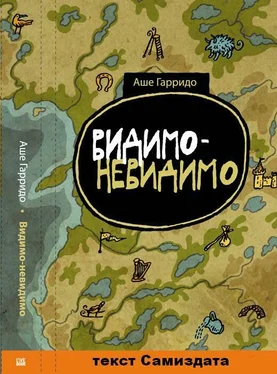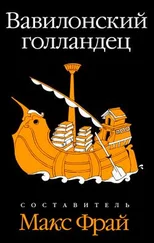— Не принимай, — буркнул Олесь. — А я все равно буду.
Мьяфте удивленно глянула на него, как будто даже и растерялась. Зато уж и смеялась потом, так что пополам сложилась.
— Дурак ты, Олесь Семигорич, хоть и мастер сильный, и гончар знатный, а дура-ак… Не стану я с тобой мериться, не дождешься. Знаешь, что будет, если ты упрешься и я упрусь? Я скажу: и будь, и не приму. И точно не приму! Да еще и тех, что уже на подворье топчутся, направлю откуда пришли. И ты не фыркай сейчас, желваками не двигай, брови не супь. Ты представь, что все они вот здесь поднимутся и на твое подворье придут. Потому что мертвыми сделал их — ты, а живыми они и не побыли. Жизни они от тебя требовать станут и какую найдут — такую и возьмут. Твою. Гостя твоего. А после и всякого, кто сюда дорогу найдет. Понял теперь?
Олесь стоял белый, Петро переводил потерянный взгляд с него на Чорну, с Чорной на него, и что-то быстро говорил одними губами. Молился, наверное.
— Мастер, — фыркнула Мьяфте, помягчев лицом. — Дурак, как есть дурак. Все ведь ты правильно понимаешь про то, как жизнь получается. И как лепится человек миром. И что на крови замешивать стал — тоже верно. Всё ты верно делаешь. Только не мужское это дело. Никак. Уж прости, — развела руками Мьяфте. — Так устроено. Ты бы и сам понял — скоро бы понял, ты умный, Семигорич. Ты сам знаешь, что тебе глаза застит. Я тебе ключ открыла там, в голове оврага-то. Пойди, умойся, глаза промой. Должно помочь.
— Что же, не встанет мой друг на ноги? — прошептал, смиряясь, Олесь.
Петро смотрел на Чорну, не отрываясь. Понял уже, кто перед ним, всю надежду, что непомерным грузом на Олеся возложил, направил теперь к темной гостье. Не дышал, слушал ее долгое молчание.
Пощадила Петра, первым ответила ему.
— Тебе без разницы. Живи, как есть — другой жизни все равно не бывает. Только как есть. А ты, Семигорич, много на себя взять хочешь. Я тебе сказала: не твое это дело. Если кто-то другой за это возьмется — с ним и говорить буду. А тебе больше нечего тут знать. Хорони своего последнего — и хватит глину изводить. Хорошая глина. Из такой свистулек наделать и всякое зло от жизни отпугивать, смерть удерживать подальше, пока ей срок не настал. А не… наоборот. Всё, пойду я. Еще этого приму, о нем не беспокойся. С остальными — если вдруг не понял чего — сам разбираться будешь. Ты.
— Так что же… — все еще не мог поверить в окончательный провал своего дела Олесь.
— Тебе обязательно, чтобы ты это сделал? Если не ты — то и конец всему?
Олесь помотал головой.
— Вот и выкинь из головы.
Сказала, развернулась и пошла вниз, по склону оврага, да и пропала там среди черных стволов на фоне черной земли.
Парни молча смотрели ей вслед, потом как очнулись: торопливо спустили в овраг волокушу, торопливо вырыли яму и забросали землей замешанную на живых соках — кровь Петра, пот Олеся — последнюю надежду. Торопливо выбрались из оврага: Олесь толкал Петрову доску, а тот и не возражал.
— Горилка-то есть у тебя? — спросил, обернувшись уже наверху, у кромки.
— Помянем, — согласился Олесь.
Две не две, а тысячу с лишком — пока не сбилась со счета, а уж сколько раз она с него сбивалась… Может, и не было никакой тысячи. Который год был за день, который день — за год, поди разбери. Шла она за солнцем, долго шла по пустым землям и по населенным. Побирушкой, проституткой, поломойкой, водоноской, нянькой, плакальщицей — уж где чем можно было раздобыть кусок хлеба, чтобы утолить голод и продолжить путь. Маленький кусок живой человечьей плоти внутри ее неостывающей и почти вечной — вот и вся жизнь, что была тогда в ней, то ли год за годом, то ли день за днем. Всё, что она слышала — властный призыв хозяев, все более требовательный, гневный, разъяренный. Ничто снаружи не могло заглушить его, ни вой ветра, ни рев водопада, ни грохот лавины, ни треск, и гром, и гул, и звон войны, ни гогот одичавших мужчин, ни стон и вопль разоренных городов, ни вдовьи стенания, ни свадебная песня, ни плач младенца, нет, нет.
Но внутри мягко билось живое сердце, год за годом — час за часом — врастая в ее существование своей жизнью, и она как будто становилась неподвластной хозяйскому зову. Сердце помнило тихий голос свирели над снежными склонами родных пастбищ — и умело поднять его завесой вокруг Сурьи, заслоняя ее. И она не вернулась, хоть знала, что когда-нибудь они ее непременно себе вернут, и кара будет страшной. Но то когда еще — а жизнь сейчас. И как бы ни мучили, в конце непременно переплавят и перелепят. Значит, и памяти о муке не останется, как не оставалось памяти о прежней жизни никогда. А нет памяти — не было и муки, останется всегдашняя покорность и готовность исполнить любое, что велят — без понимания и чувства. Ведь сердце не вынесет той муки, а если и вынесет муку — не выживет в плавильне черного неба, а если бы и выжило… не оставят ей сердца, выгнут ракитовой веткой над бездной, надрежут бледным ногтем натянутую кожу, переломят хрупкие ребра, вынут маленькую жизнь, раздавят в ледяных пальцах. Морознее земного мороза дыхание Господ, ледянее льда их плоть — вмиг станет прахом иссушенная невозможным холодом человечья плоть, и стряхнут прах с пальцев, и подуют на них…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу