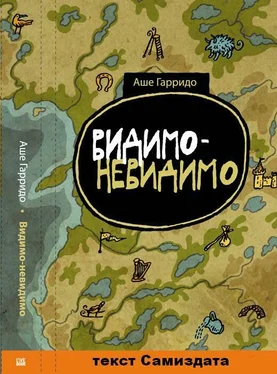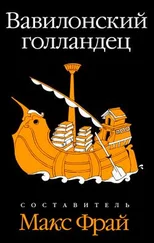— Что ни говори, парень способный, — проворчал Мак-Грегор, набивая трубку. — Только присмотр за ним нужен.
— Будет и присмотр, — провел ладонью по макушке Кукунтай и, вздохнув, добавил: — Однако.
— Однако уже светает, что ли? — озаботился Видаль. — Ну вот. Расходиться пора — а дождя так и не дожда…
— Тссс! — зашипел на него Олесь. Скосил глаза направо.
Ао застыл над кружкой. Локти упирались в стол, кулаки под подбородком, рассеянный взор тонул в недопитом пиве. Все затаили дыхание, даже Рутгер, которого учитель на всякий случай легонько ткнул кулаком в ребра.
Ао мечтал о том, как первые капли дружно ринутся с небес и разобьют стеклянный покой воды, расчертят ее танцем пересекающихся кругов, как шелест сотрет сонную рассветную тишину, как сизая дымка дождя затянет утро.
Ао мечтал, и блаженная улыбка блуждала по его лицу.
Из-за высоких сосновых крон наползали тяжелые тучи.
Направо, представьте, широкая степь, ровная, звонкая, сколько хватает глаз. И налево, представьте, степь — бескрайняя, зовущая бежать без оглядки туда, где земля, и на цыпочки не привстав, с небом целуется. И посреди тоже степь — веющая ароматами горькими, пряными, сладкими — всеми разом.
Ни дороги, ни приметы ясной, только сухие стебельки подрагивают на ветру и тихо-неслышно звенят, звенят.
И вот в самой середине этой звенящей бесконечности, между правым и левым, между землей и небом лежит в траве дева красоты несказанной: кудри черные из-под красного платка выбиваются, ресницы в полщеки, уста пламенеют от жара. Смугла, стройна, разлеглась привольно, и не колет ее тело белое сухая трава, сухие комья земли не ранят — сквозь войлочную куртку да стеганые штаны не добраться, не достать.
Отдыхает Ганна-почтарка, задремала на солнцепеке, только ветерок степной обдувает жаркие щеки девичьи, а то Мотря нет-нет да и подойдет, укроет всадницу свою тенью, встанет между ней и солнцем. Но тут Ганна ее кулаком в брюхо — гудит вокруг Мотри мушиный хоровод, деловито снуют слепни-оводы, крепкий дух неостывшей после дальнего бега свиньи будоражит их. Мотря обиженно хрюкнет, да и отойдет в сторонку, ловить жуков-пауков, а когда и сусличью нору разрыть. А Ганна — платок с головы и ну отмахиваться от кровососов.
Тишина и покой, в жарком мареве плавятся края земли, воспаряют к небесам, перемешиваются — так, глядишь, и вся степь поднялась бы стеклянной зыбью, горячим потоком в синеву. Да не успеет: солнце клонится уже к закату, жар дневной утихает.
Ганна сидит на теплой земле, распустив косы, водит гребнем костяным вверх-вниз, припевает без слов.
Из уст — ни слова. Из души — то ли мечтание, то ли жалоба. Одним гудением поет Ганна, то голос вскинет, то вниз уронит стоном. Ладно всё, да не ладно. И ласков Видаль, и не подступиться к нему — улыбка здесь светит, но за дальней далью его душа. Что там держит ее, в одиночестве, когда Ганна вот она, и красива, и горяча, от парней отбою нет… Но как улыбнется Видаль — и словно в целом свете нет больше ни парня холостого, ни чужого мужа, никогошеньки. Один он на свете такой, что на него смотреть — голову задирать приходится, а другие Ганне и по локоть не достают. Так она чувствует, таким его видит, тем и привязана к нему намертво, что тянуться к нему приходится, на цыпочки, как земле к небу. А он что же? Даже и обнимет — а сам как будто и близко не подошел.
А ведь умеет ходить, куда ему хочется, умеет сквозь темную даль и пустоту пройти, как через ручей перешагнуть, нет ему преград вовне. Что же его к Ганне не пускает, видно же, что люба она ему… Любуется — значит и люба. Так.
Так-так-так — откликнулся звонкий краснозем, загудел, забился. Ганна вскочила на полусогнутых, расставив руки. Оглянулась: Мотруся здесь, рядом, а гул такой, как бывает, когда гиперборейская свиноподобная тварь берет разбег, чтобы перенестись через бездну пустоты… или наоборот, из прыжка приходит на твердую землю.
А Мотруся здесь. А других таких тварей в Новых землях не видали, не слыхали даже о них — все повывелись давно, если и бывали когда-то.
Смотрит Ганна, рукой глаза от солнца заслоняет — летит по степи всадник, кудри черные вьются на ветру, куртка словно крыльями машет полами, пуговицы золотом ярким горят.
Подъехал. Цыган. Остановил скакуна резвого, смотрит на Ганну, на Мотрю, с одной на другую взгляд перебрасывает.
А у цыгана рубашка — на груди в мелкую складку, в шитье рукава широкие, в прорехах. Была, говорят, бела, да когда ж то было! Ай, ромалэ… Зато пояс у цыгана — широк, на потертой коже бляхи горят, стан в таком поясе сам собой прям, и вздумаешь — не поклонишься. Накинута на плечи куртка белого сукна, а пуговицы на ней золотые, с желудь каждая — да щербат их ряд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу