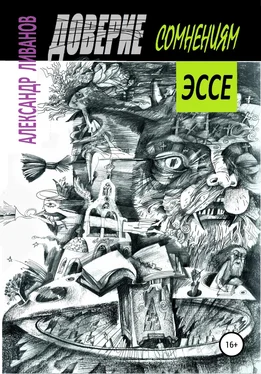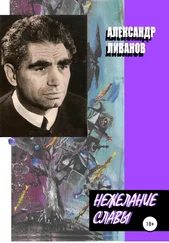А ведь для Шукшина этот мещанин был более, чем реален! И он боролся с ним! Нет мещанства с «семнадцатого года»? А вот, например, что о нем, писал Леонид Леонов в журнале «На литературном посту», в 1929 году: десять с лишним лет после революции: «Считаю мещанство самой злой и не преодоленной покуда опасностью. Болезнь сидит глубоко, лечить ее трудно. Ветхозаветный мещанин прошлого ничто в сравнении со своим пореволюционным потомком. Нынешняя отрасль его, прокаленная огнем революции, хитра, предприимчива и мстительна… Лишенный творческого духа, он страшится стихийного творческого подъема, охватившего страну».
Да один ли Леонов тогда писал об опасности для народа в мещанстве? И не потому ли ныне мещанин «столь рядом, и, может быть, глядя на это, посмеивается», – что он стал еще сильнее, еще массовей? Не потому – даже Шукшин, с его бесстрашием художника и решимостью гражданина – кажется здесь «Дон-Кихотом, бросающимся на ветряные мельницы»? И вечная слава Дон-Кихоту. И вечная слава Шукшину!
Между прочим, «доказательство от обратного». Подлинный художник всегда – неизбежно – встречается с дьявольщиной мещанства! В каждую эпоху оно – свое, со своим ликом, своими кознями…
Шукшин – идет вперед, явление растет в своей литературной значимости, а статья, увы, несет прочную печать «вчера», как бы являясь инерцией во взглядах критики на того же, «вчерашнего», недооцененного современной критикой, Шукшина. Но вот пример – один из многих – этих, увы, рассыпанных, прозорливых наблюдений критика. «Есть, конечно, в шукшинской разговорности что-то завораживающее, заговаривающее, есть что-то разбирающее мысль на впечатления, уводящие от самой мысли. Шукшин сам уходит и нас уводит. Но мы, со следа его сойдя, на свою дорогу выйти можем. Важно, что след есть, дорога указана…». Или, все же, еще один пример: «Непросто перевалить через эту гору – через самого себя, – а Шукшин переваливает. Он оттого и с читателем на «ты» – не в своего играет, не разыгрывает, а держит перед нами речь, как на Страшном суде. Читая его книгу, все время как бы меняешься местами с автором – только хочешь с ним схватиться, поспорить, он уже сам себя оспорил и высмеял, сам в читателя своих строк превратился. Меняешься местами с автором, и эти подмены не раздражают, наоборот, чувствуешь себя легче, и каждый раз снимается с души какая-то тяжесть, какая-то досада».
Критик не объясняет свои наблюдения. А жаль – тут бы сразу утратили свою остроту все укоры его в адрес писателя! Перед нами предстал бы поэт Шукшин во всем разнообразии народности его художнического мира. Не то же «завораживание», не ту же замену рассудочной мысли будто бы «уводящим» образным впечатлением мы видим в нашем фольклоре, в былинах наших, в говорах и сказах? Затем, в этом и живая поэтика русского живого слова. «Со следа их сойдя – на свою дорогу выйти можем», – это, наконец и главная суть поэзии вообще: фольклорной ли, книжной ли! Равно, как свойством поэзии и это – «меняется местами». Иными словами – способность слова поэзии быть ненавязчивым, демократичным, доброжелательно-уважительным, где «я» авторское и слушателя (читателя, – а то и, как у Пушкина, «читателя-друга») едины. Вот так поэзия и снимает с души «тяжесть», любую «досаду»!
Примеров тому, что такое наше образное народное слово, изустное ли, или печатное, не счесть. Вот перед нами одна из последних книг Федора Гладкова – «Повесть о детстве», «Я уже сидел на кровати у бабушки, ловил каждое ее слово и позабыл о печке, о щах, о каше… Хотя рассказывала она слабым голосом, с перерывами, с одышкой, часто шепотом, но каждое ее слово было живое, зримое, проникновенное. Есть люди, которые обладают чудесной способностью не только произносить, но творить слова, то есть говорить их кстати, к месту, воплощать в них и мысль и чувство полно, густо, впечатлительно. Эти слова чаще похожи на мысли вслух и звучат тихо, задушевно, но образы их остаются в памяти навсегда. Бабушка Наталья дышала искренностью своих слов: для нее ни одно сказанное слово не пропадало даром, для нее сказать – значит выразить то, чем в данную минуту живет ее душа. Я никогда не слышал, как она пела, но речь ее всегда похожа была на песню. Не рассказывала она мне и сказок, но каждый раз ее рассказ о пережитом похож был на увлекательную сказку. Она много пережила на своем веку всяких невзгод: испытала муки бесприютности, беззащитности, вынесла бесправие рабского труда и научилась прощать таким же людям, как она, их жестокости и заблуждения… Она любила говорить пословицами и складными словами, и запас их был у нее неистощим. Эта народная мудрость, отлитая в емких и звучных словах, чудилась мне широким полем, усыпанным цветами. Говорила она легко, распевно, немного грустно, и слова звучали красиво и необъятно».
Читать дальше