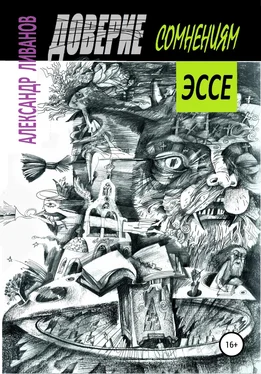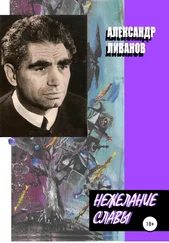Игорь Золотусский, чувствуется, пишет лишь то и тогда, когда по-настоящему взволнован «материалом». Глубина анализа определяется не только интеллектом критика, но и субъективным лиризмом, эмоциональной прозорливостью поэтического вдохновения. Не побоимся сказать это применительно к критику. Вот почему слово его не просто не «академично», оно устанавливает контакт с читателем писательской образностью. В который раз убеждаемся, что можно быть поэтом не только в прозе, но и в критике, даже в публицистике, и не быть им в стихописании! Поистине – не жанр определяет художника, а наоборот, все написанное им, в любом жанре, есть то, чем он сам является как художническая личность…
Не исключение и последняя книга критика – «Трепет сердца», и о нашей классике – Гоголе и Пушкине, Достоевском и Чехове, и о наших современниках – Воробьеве и Белове, Шукшине и Быкове, о других. Как и все работы критика, и эту отличает новизна и смелость концепций, поток художественного мышления, широкий ассоциативный фон и та свобода взглядов, которая дается не одной лишь эрудицией и культурой, а именно единой цельностью личности писателя, и которую чувствуешь не только в сказанном, в подтексте сказанного, а и в «подтексте подтекстов», самого творческого ресурса критика…
Но понимая значение явления – критика, его личности, художественного мира его книг, любя их создателя, мне случается и с чем-то быть с ним несогласным в его «конкретном слове». Так случилось и при чтении статьи «совесть, совесть и совесть» в книге «Трепет сердца».
Каждый, разумеется, волен понимать вещи по-своему, литературно-писательские суждения – по поводу жизни и литературы – выражают себя многоголосо, «соборно», выстраиваются не линейно, скорей некой ширящейся сферой единого духовного мира. Может, само мироздание, с его незримыми и напряженными силами тяготения, неисчислимостью галактик, их разбегом и катаклизмами, и все же с неизменной гармонией – и есть некая идеальная модель, к которой неосознанно устремлена литература и все происходящее в ней? Мироздание – образец для литературы, равно как сама литература – образец для жизни?..
Надо ли спорить с писателем, чье слово любимо, дорого, радостно-ожидаемо?.. Но риторичные вопросы порождены сомнениями. Они больше всего обращены к самому себе. Поэтому на них трудней всего ответить.
Да, есть случаи, когда несогласием не пренебречь, нужно спорить. С кем бы то ни было. То есть, когда речь идет о вещах принципиальных, уже выходящих из рамок «каждый волен» – и даже «каждый обязан».
«Совесть, совесть и совесть», статья, посвященная книге Шукшина «Нравственность – есть правда», книге, где собрана публицистика Шукшина. Наверно, нет нужды оговаривать, что именно – книгу такую Шукшин не писал. Рядом с его статьями – и беседы, и интервью, и выступления. Так или иначе – перед нами посмертная книга публицистики Шукшина! И она читается с таким же интересом, как и книга шукшинских рассказов. Ее бы, пожалуй, очень не хватало нам. К счастью, она есть. И разговор о ней, на этот раз известного критика, правомерен и тоже не может не интересовать нас…
Во-первых, о «тональности» статьи «Совесть, совесть и совесть». Да, уже настроением автора, атмосферой текста, статья рождает чувство удивления. Все похоже на более чем непринужденную рецензию по поводу рукописи, которая еще неизвестно, станет ли она книгой; или же, если станет книгой, то заведомого беллетриста средней руки, который живет, пишет, издается, читается (и ничего с этим не поделаешь), но серьезному критику тут не с чего изображать почтение, или там даже – пиетет! Известный критик как бы то и дело забывает, что речь о писателе не просто редкостно самобытном, народной природы, но и страдальческой судьбы. Да, именно страдание было главной творческой пружиной художника. Страдание не за известность – из того же народного чувства значения своего слова. Ведь этих – в обычном понимании – страданий вроде бы нет, не на виду они во внешней биографии человека и художника, имя которому Шукшин… А это, сдается нам, надо бы в первую голову почувствовать каждому, кто берется писать о Шукшине. Дело не в почтительности позы, не в стилистически-мимическом сострадании – без верного чувства Шукшина как художника написанное не сможет приблизиться к истине… Затем, страдательно-горячая и вдохновенная стихия Шукшинского слова вряд ли может быть постигнута одним лишь профессиональным анализом да сравнительными экскурсами-суждениями. Нужна подобная стихия вдохновенности, та же высь творческой волны, с которой можно обозреть, пусть хотя бы бегло, зримые горизонты народного явления в литературе. Наконец, главное, – говорить о Шукшине – как о художническом явлении совершившемся в своей законченности, где остается лишь что-то уточнить, поставить на место (точно поправить цветок-другой на надгробии), в то время, как явление, точно посадка молодого леса, растущее во времени, когда – «Шукшин – начинается» – означает заранее обречь многое в написанном на бесплодность…
Читать дальше