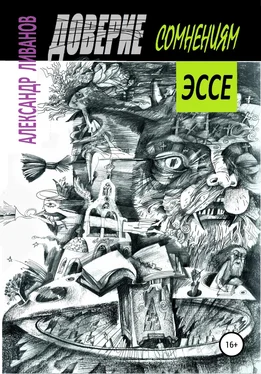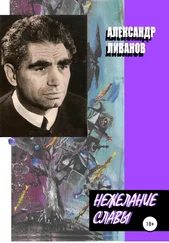Печорин во многом следует в любви философии Демона, превращая любовь – в испытание, не доверяя чувству. Он не жалеет несчастную и отвергнутую им княжну Мэри, не сочувствует ее любви-року. Аналитичный в любви, Печорин тем более насторожен и недоверчив в дружбе. Княжна Мэри отвергнута Печориным именно тогда, когда сама признает себя побежденной в любовном поединке. Печорин догадывается о том, что княжна Мэри не смогла бы быть свободной в любви!.. Ее нраву присущи и властвование, и послушание, но и то, и другое из эгоизма. Княжна Мэри, и покорившись, не выдерживает печоринского испытания в любви! Равно как вскоре не выдержит и испытания на дружбу и Грушницкий…
Заточая плененную Бэлу, Печорин тут же открывает ей дверь: ты свободна! Инстинкт свободы в любви возвышает Бэлу в глазах Печорина. Она не воспользовалась открытой дверью, не загадывая о будущем.
Красота и для Пушкина, и для Лермонтова – явление гениальное. Поэтому ими и признается за нею право осуществляться по своим имманентным законам. Поэтому Пушкин все приемлет и благословляет в жизни (даже перед тем как закрыть навеки глаза он посылает свое прощение своему убийце – Дантесу!..). Лермонтов всегда бойцовски насторожен, он слишком помнит о силах зла. Если Пушкин забывается в идеальном, Лермонтов и идеальное выверяет земной злобой, внося в него земные этические коллизии…
Лермонтов так мало жил, хоть и успел много выстрадать, что его идеалы еще пунктирны, наметочны, они зыбки под твердыми контурами художнически запечатленных коллизий действительности. Опечаленно, а не смиренно смотрит поэт на этические изломы жизни. И он уже не хочет себе создавать даже иллюзий о любви и дружбе. Ни уклониться, ни обороть красоту Лермонтов тоже не пытается. Она его вдохновляет не столько эстетически, сколько творчески-философски. Кратковременность бытия, непрочность красоты, ее захватывающее наитие – все до слез, до сердечной муки трогает Пушкина. Лермонтова это все лишь повергает в печаль, в оцепенелое чувство перед бездной жизни, несущей для сердца человеческого злые начала. И красота его вооружает противостоянием власти ее непосредственного обаяния. Пушкинское чувство в Лермонтове старше, искушенней, многозначней.
Пушкин весь безоговорочно отдается власти красоты – Лермонтов к ней недоверчив, выжидающ, он предвидит все ее роковые последствия. Он медлит вступить в ней в поединок.
И Тамара, и Демон не желают – не могут – идти друг другу навстречу!..
Мы говорили об этом столь подробно – об эстетически-непосредственных и эстетически-аналитичных символах красоты двух поэтов, потому что здесь – если не единственный, то важный – ключ к пониманию очень существенной черты в духовном облике каждого поэта. В этом символе в каждом отдельном случае – и наше восприятие личности и души поэта. В конце концов художественный мир слова – лишь некая отраженная вторичность такого мира – души поэта! Более того, тайна человеческой личности художника накладывает свою таинственную печать на творчество. Одно без другого не дано нам постичь. Вот почему «подробности из личной жизни» художника – сами по себе – самоцельны лишь для незрелого читателя. Для серьезного читателя здесь приподнимается еще одна завеса, мы еще на шаг приближаемся к художественным ценностям в трудном и органичном единстве – художник и его слово. Интерес здесь равен духовному восхождению…
Эстетические символы жизни, ее красоты – вещие для творческих постижений в слове поэта!
Сказать – значит – выразить
Слово известного нашего критика Игоря Золотусского. Я, как, впрочем, многие читатели, встречаю с чувством предвкушаемой радости. Читаю неизменно его статьи и книги, в которых он не просто «разный и разнообразный», всегда страстный, умный, интеллектуально-вооруженный собеседник. В его работах нередко находишь ответы на насущные вопросы литературы и действительности, ощущая живо их динамичную, живую же, границу – нет, не границу, даже не зеленеющую условную межу, а скорей уже совсем условное, без обозначенности в контурах: предполье. Оно является предпольем и для нас, и для противника, оно может перейти из рук в руки, как переходят друг к другу действительность и литература!..
Слово «предполье» кажется бесспорно происходящим от «поля» – но на войне оно в не меньшей степени и от «предположения». Ведь и «поле» от «поло» (пусто), от рас-поло-жения. (Отсюда и «половцы»!). Слова «предполье» нет в современных словарях. Основательно забытое, слово на время «обслуживало» церковное понятие, обозначало заботу о том, как церковь смотрится из дали! Снова, и не без надобности, видать, слово «предполье» появилось в языке нашем – у… тактиков Второй мировой войны. Как известно, предполье, лежавшее за передней полосой обороны, укреплялось. Тревожной неизвестностью своей, оно побуждало к тому, чтоб освещать его ракетами. Сколько раз описан этот ночной пейзаж в литературе! Особенно по поводу перехода предполья разведчиками, этой «ничьей земли», ее «пелены»!.. За «пеленой» находился – враг. Так основательно забытое, «старое» слово стало «новым». Вот почему мы его вспомнили здесь уже по поводу критики. Без верного чувства – освещения – предполья между жизнью и литературой, автора и его произведения – и само произведение вряд ли будет понято с надлежащей полнотой!..
Читать дальше