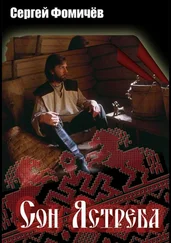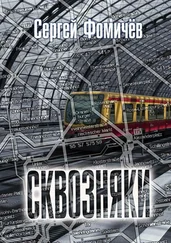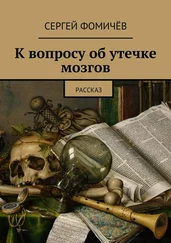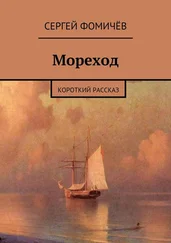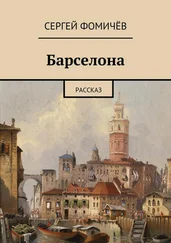Несмотря на длительную реставрацию и героическую работу настройщика, пианино звучало нестройно. Однако для основного репертуара – регтаймов и блюзов – дребезжание помехой не являлось и даже напротив придавало атмосфере салуна ещё большую достоверность. Она получалась настоящей, живой.
К слову, живая музыка до сих пор редко звучала в городе. Он возник в эпоху винила, магнитных лент, скверных колонок и самодельных усилителей. Здесь больше любили бобины, кассеты и пластинки, чем, скажем, концерты, тем более что и заезжие второсортные звезды из всех искусств важнейшим считали фонограмму.
Что до живых звуков, то в прежние времена они в больших количествах долетали из окон местной музыкальной школы – окон, словно нарочно распахнутых настежь в любую погоду. Бесконечно повторяющиеся гаммы пронзали души прохожих подобно гамма-излучению, а робкие попытки учеников подражать классикам не способны оказались привить кому-либо из прохожих любовь к музыке. Так что квартал, где располагалась школа, горожане старательно обходили стороной. В пятиэтажках с их тонкими стенами, музыкальные экзерсисы под давлением общества тоже стихали быстро, а ведь имелась ещё в городе всевозможная художественная самодеятельность и полковой оркестр той самой выведенной из Германии танковой части, но никому из них не удалось пробудить в окружающих чувство прекрасного. И только с появлением у Феликса в кабаке ветхого Мекленбурга живая музыка стала по-настоящему привлекать и завораживать простых людей. А быть может, дело было не только в музыке.
За инструментом всегда сидела одна и та же женщина. Невысокого роста, худая с пепельного цвета короткими волосами. На вид ей было лет тридцать, но в этом возрасте внешний вид часто бывает обманчив. Она чередовала тёмно-синее платье с вишнёвым, иногда очень редко появлялась в белом. И тогда посетители гадали, что за торжество приключилось у пианистки, так как с общими праздниками такие дни обычно не совпадали.
Её платья не были концертными или вечерними, скорее их можно было бы назвать выходными или деловыми, в каких появляются обыкновенно на важных встречах или на свиданиях, и в салуне именно такие смотрелись уместно. Всё чересчур роскошное в непритязательной обстановке выглядело бы китчем и разрушило бы атмосферу дикого запада.
Никто не знал её имени, никто не слышал её голоса. Она не разговаривала, не пела. Но как же прелестно она играла! Играла вдохновенно, однако, явно не выкладывалась в полную силу и этот скрытый потенциал чувствовался любым профаном; легко играла, не в тягость – в удовольствие. Звучали обычно Джоплин, Гершвин, кто-то ещё из американцев; звучали регтаймы, блюзы, из которых Ухтомский сумел определить лишь относительно известные «Кленовый Лист» и «Саммертайм», но и остальные мелодии были отдалённо ему знакомы, просто слабая эрудиция не позволяла вспомнить названия.
Репертуар эпохи немого кино – эпохи никогда не царившей в городе, в силу его юного возраста, но вот как-то проникшей вдруг из прошлого, просочившейся сказочным отражением волшебного фонаря с живыми картинками вместе с подходящим по возрасту пианино и его дивными дребезжащими звуками.
«Молчаливая женщина любила такие же молчаливые фильмы?» – задавался вопросом Ухтомский. – «Или она сама попала сюда из прошлого?»
Обычно она играла около часа, прогоняя почти всегда одну и ту же программу, а затем брала перерыв.
У неё был собственный небольшой столик рядом с подиумом, и он всегда был застелен скатертью под цвет её платья. На скатерти стоял массивный бронзовый подсвечник на две свечи, такая же тяжёлая на вид пепельница, а на спинке стула висела дамская сумочка.
За клавишами она не курила, но когда садилась за столик, таскала сигареты из маленькой мятой пачки, точно белка орешки. Она курила обязательно «Кэмел» и непременно без фильтра – такой здесь почему-то называли сержантским – вставляла в короткий наборный мундштук, прикуривала от бензиновой зажигалки. И высасывала сигареты одну за другой, пока Феликс не ставил перед ней чашку кофе. А тогда её внимание переключалось.
Кофе она пила так, как замёрзшие почти до анабиоза люди пьют горячий чай. Сутулясь, склоняясь над столиком, точно ловя телом ускользающее от чашки тепло, а саму чашку обнимая обеими руками плотно, без единого просвета.
Вечером Феликс ставил на её столик заранее откупоренную бутылку тёмно-красного вина – непременно контрабандного «Мукузани», наливал немного в бокал, зажигал свечу. И тогда она выпрямлялась, точно превращалась в породистую аристократку, и, делая короткие глотки, смотрела поверх бокала сквозь посетителей, и дальше сквозь стены и через город, куда-то за горизонт, а Ухтомскому чудилось, что она смотрит туда же куда и он. В самую дальнюю даль. И где-то там их взгляды встречаются, не узнавая, впрочем, друг друга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу