Обмираю. В глубине зеркала лицо скрыто за темными водорослями времени. Поймали. Пригвоздили. Шлепаю ладошкой по ледяному стеклу, и по нему расползаются инистые узоры. Между сознанием и реальностью зияет бездна смысла, точно стекло, что не дает слиться с зазеркальным двойником. Гуссерль понимал, что говорил. Каждое мгновение парим над этой бездной, не замечая ее. Обыденность. За что бы не брался в этом лучшем из миров, а оно в ответ шепчет, кричит: «Скука! Все было и еще тысячу раз будет!»
Пальцы заледенели. Засовываю их между бедер и чувствую, как холод поднимается выше, заполняет анестезирующим облаком все эти складки, между которыми тоже бездна смысла, потому что никакого иного (божественного) смысла в убогой анатомии деторождения уж точно нет.
В расщелине между мирами ночи и дня мир выглядит совсем иначе. Скорей бы преодолеть ее. Перепрыгнуть. Убежать в тошнотворность ритуала, повторяемости, скуки. Там спасение. Беру чашку и делаю глоток. Темнота за окном намокает, сереет, скукоживается, унылый дождик пропитывает картон начинающегося дня, и тот набухает, расползается противными хлопьями, выпадая на грязный асфальт.
Так вот куда девается прошлое! Открываю блокнот и записываю: «Так вот куда девается прошлое! Его не сжирают лангольеры, оно превращается в грязь, пыль, мусор, бомжей, блядей, убийц и детей, всех тех, чье пристанище — ночь!»
Глубокая мысль. Чашку поставить некуда. Ставлю на исписанную страничку. Коричневые капли стекают по розовым свиньям. Теперь глубокая мысль отмечена печатью утреннего кофе.
Что же это? Я, мной, мне… Грамматика. Синтаксис. Каждый — безвольный раб грамматики. Малейшее движение души просто требует первого лица. Я. Я пью кофе. Я yebalas\ всю ночь. Мне huyevo. И что тут реального? Почему мир, имеющий к нам некоторое отношение, не может оказаться фикцией?
А как же тогда Творец? Значит, что он обманывает нас? Он сам связан с фикцией?
Или само слово «связан» связано с фикцией? Разве не позволительно иронизировать по отношению как к субъекту, так и предикату и к объекту? Почему бы не стать выше веры в незыблемость грамматики?
Ницше. Он знал в этом толк. Знал ли? Что есть любовь, как не атрофия сомнения? Если сомневаюсь в том, что он там сформулировал в крохотных просветах между приступами головной боли, то… Если…, то… Из ловушки языка невозможно вырваться. Если написала диссертацию по гносеологическим проблемам ницшеанства, то ты — философ. Если сношаешься за деньги, то ты — kurve. Все просто в логичнейшем из возможных миров. blyad' yebyetsya за бабло, без бабла ей западло.
3. Пробуждение, свет, скоморох
Чтобы жить в одиночестве, надо быть животным, богом или тем и другим — философом. Личный вклад в мировую ницшеану — и животным, и богом, и философом.
Никогда не сплю, но все равно есть свое пробуждение. Много раз наблюдала, как просыпаются другие люди — так же отвратительно, как сеанс оживления покойника. Глаза под веками начинают двигаться, пальцы подрагивают, на губах выступает слюна, член торчит, вагина намокает, словно перед оргазмом. А что еще может сдвинуть с места такую ленивую скотину, как человек? Страх смерти и гениталии ближнего/дальнего своего. Даже умирая насильственной смертью, оргазмируем и испражняемся. Что же говорить о ежедневном воскрешении из царства спящих?
Хватило девяти месяцев метаморфоза из оплодотворенной яйцеклетки до вытолкнутого из матки визжащего куска мяса. Ох уж и намучились родители! Новорожденная постоянно орала. По всем законам естественного отбора у подобной особи не имелось никаких шансов на выживание — в какой-нибудь первобытной пещере такую бы просто придушили или отдали на растерзание тотемному хищнику. А если бы не отдали, то вряд ли какой из местных обалдуев позарился на прямоходящие кости…
Скоморох тоже смотрит в окно. Лицо размалевано грустной ухмылкой, и лишь в узком просвете между гримом и ярко-красным патлатым париком можно видеть серую кожу. Голова дергается, бубенчики звенят. Балалайка прижата к животу.
— Привет, — киваю и не жду ответа. Запас унылых шуточек иссяк еще ночью.
Скоморох усох, грим отслаивается, толстые губы распустились. Хочется перегнуться через стол и тронуть пальцем его щеку.
Балалайка тренькает. Свет втекает в комнату скудными, серыми порциями, напитанный осенью, дождем, палой листвой. Собирается под ногами стылыми лужами, растекается по стенам влажными пятнами. Корчусь на стуле воробушком — нахохленным, растрепанным. Подол рубашонки задирается, но скомороху все равно. Обхватываю колени и смотрю туда же, куда и мой гость — в хаос мегалитических надгробий, воздвигнутый над живым трупом человечности.
Читать дальше


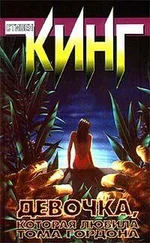



![Елена Булганова - Девочка, которая спит. Девочка, которая ждет. Девочка, которая любит [сборник litres]](/books/436759/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-devochka-ko-thumb.webp)




