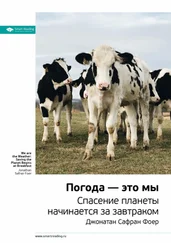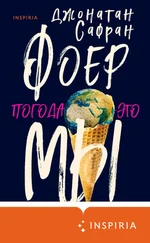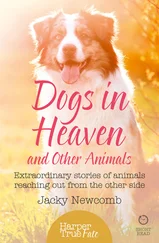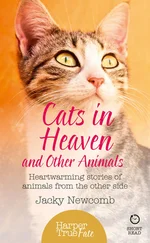Беньямин обращает внимание на то, что среди предков Кафки — в его «неизвестной семье» — были животные. Животные — естественная часть нашего сообщества, и перед ними Кафка тоже мог залиться румянцем стыда, давая нам понять, что они непременная составляющая его внутреннего нравственного мира. Беньямин утверждает, что животные Кафки — это «хранилища забытого», и это замечание поначалу озадачивает.
Я привожу здесь все эти рассуждения с единственной целью — рассказать о том, как Кафка разглядывал рыб в берлинском аквариуме. Поведал эту историю близкий друг Кафки Макс Брод.
Неожиданно, пишет Брод, он начал разговаривать с рыбами в освещенных резервуарах. «Теперь, по крайней мере, я могу смотреть на вас спокойно, я вас больше не ем». Именно тогда он и превратился в строгого вегетарианца. Если вы не слышали своими ушами этих слов, слетевших с уст Кафки, вам трудно будет даже вообразить, как просто и легко, без какой-либо аффектации, без малейшей сентиментальности — которая была вообще ему чужда, — он это произнес.
Что же подвигло Кафку стать вегетарианцем? И почему Брод упоминает замечание именно о рыбах, чтобы охарактеризовать взгляды Кафки на то, что можно употреблять в пищу? Выказывая свое предпочтение вегетарианства, Кафка наверняка высказывался и о сухопутных животных.
Ответ, вероятно, отыщется в рассуждениях Беньямина, который заметил, с одной стороны, связь между животными и стыдом, а с другой — между животными и «забыванием». Стыд — это работа памяти против забывания. Стыд — это то, что мы чувствуем, когда почти полностью — если не абсолютно — забываем о будущем всего социума, связанным с надеждами и ожиданиями, и о наших личных обязательствах перед другими, предпочитая собственные сиюминутные удовольствия. Рыба для Кафки была, наверное, самой сутью такого «забвения»: ведь ее жизнь в иной, чем наша, среде забыта, молено сказать, полностью по сравнению с тем, что мы помним о сухопутных животных, выращиваемых на фермах.
Главным символом этого полного забывания было для Кафки поедание животных, их плоти, для него это было равнозначно тому, что мы забываем или желаем забыть и о части нас самих — о нашей плоти. Неспроста, желая отделить себя, отречься от своей сущности, мы противопоставляем себя «животному миру». И как следствие, мы стараемся подавить или скрыть свою природу, но лучше многих из нас Кафка знал, что иногда, просыпаясь, мы обнаруживаем, что все еще самые настоящие животные. И это уже не кажется просто выдумкой. А тогда стоит, так сказать, покраснеть от стыда перед рыбой. Мы легко можем выявить часть себя в рыбе — позвоночник, ноцицепторы (рецепторы боли), эндорфины (которые облегчают боль), все эти знакомые болевые отклики. А теперь попробуйте отрицать, что эти моменты сходства с животными не имеют значения, — тогда уж сразу откажитесь от важных составляющих нашей человеческой природы. То, что мы забываем о животных, мы начинаем забывать о себе.
Итак, вопрос поедания животных означает не только наше врожденное свойство реагировать на живую жизнь, но и нашу способность ощущать свой собственный организм как часть родственной нам животной жизни. Война идет не только между ними и нами, но между нами и нами. Эта война стара, как предание, и с таким же непредсказуемым исходом, как любая война в истории. Как полагает философ и социолог Жак Деррида, это
неравная борьба, война, не сулящая пока победы ни той, ни другой стороне, война, в которой столкнулись те, кто не только вторгается в жизнь животных, отринув даже чувство жалости, и те, кто взывает к этому «жалкому» чувству.
Война как раз и ведется вокруг жалости. И война эта, как может показаться, вечная, но… обнаруживается ее переломная фаза, трещина. Мы смело кидаемся в эту трещину, а трещина проходит через нас. Нельзя забывать, что война, которую, как оказалось, мы ведем, — это не только долг, ответственность, обязанность, но и необходимость, неизбежность, и прямого или косвенного участия в ней, нравится нам это или нет, никому не избежать… Животное смотрит на нас, а мы перед ним обнажены.
Животное безмолвно ловит наш взгляд. Животное глядит на нас, и отведем ли мы взгляд (от животного, от нашей тарелки, от нашего беспокойства, от нас самих) или нет, не важно — мы уже разоблачены и сами выставлены напоказ. Неважно, изменим ли мы свою жизнь или ничего не станем делать, вызов брошен. Ничего не делать — это тоже поступок.
Невинность маленьких детей и их свобода от всякой предвзятости позволяет им слышать животное даже в его немоте и видеть то, что недоступно взрослым. Может быть, хотя бы наши дети не будут становиться на чью-либо сторону в нашей войне (но воспользуются ее трофеями).
Читать дальше
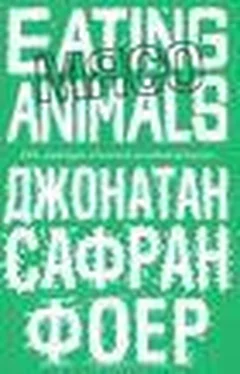


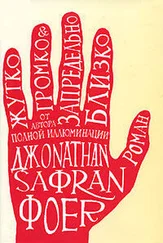
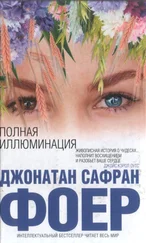

![Джонатан Фоер - Погода – это мы [litres]](/books/384453/dzhonatan-foer-pogoda-eto-my-litres-thumb.webp)