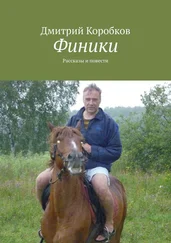Володя Злобин - Финики
Здесь есть возможность читать онлайн «Володя Злобин - Финики» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Контркультура, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Финики
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
Финики: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Финики»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
От автора:
Это не обличающая журналистская истерика, не литературный "Ромпер Стомпер", не типичный рассказ об "идейном" парне. Этот роман о слабых людях, захотевших стать сильными, сжать кулаки и доказать, что они способны победить Систему. И пусть само слово "Система" давно стало торговой маркой, под видом борьбы с которой продвинутым покупателям впаривают маски Гая Фокса и лицензионные DVD с фильмом "Бойцовский клуб", но это не означает того, что стоит терять надежду. Какую надежду? Я думаю, после прочтения романа, каждому это откроется по-своему.
Да, это - роман надежды. Именно надежды больше всего не хватает в нашей жизни. Надежды на изменение в лучшую сторону: себя и мира. Я поразмыслил над тем, как это может выглядеть. Прошу лишь помнить, что единственное неотъемлемое право, которое есть у каждого художника, это право на вымысел. Его я использовал на полную катушку, поэтому некоторые сцены выглядят фантастично.
Главная проблема современных движений - это мышление схемами вековой давности. Возможно, роман поможет кому-то по-новому взглянуть на реальность и продвинуться к нахождению той идеи, которая смогла бы сплотить вокруг себя активное русское большинство.
Роман расскажет о взрослении неуравновешенного человека, разрывающегося между жаждой справедливости и боязни понести за неё наказание. Большой массив событий, через которые проходит герой, не смотря на средний объем произведения, делают этот текст романом. Проза, чтобы остаться квинтэссенцией мысли эпохи, должна быть острой, резкой, бьющей в голову и цепляющей за сердце, но никогда полной словесной бюрократии и бесконечными мещанскими подробностями. Поэтому роман выдержан в полюбившемся мне стиле небольших едких главок. Повествование от первого лица сохранено для лучших ассоциативных связей. Написано моим привычным стилем, так что будьте готовы, как к сочным метафорам, неожиданным поворотам сюжета, героическому пафосу, но и отчаянному безумию, редкой обсценной лексике.
Да, это - роман надежды. Именно надежды больше всего не хватает в нашей жизни. Надежды на изменение в лучшую сторону: себя и мира. Я поразмыслил над тем, как это может выглядеть. Прошу лишь помнить, что единственное неотъемлемое право, которое есть у каждого художника, это право на вымысел. Его я использовал на полную катушку, поэтому некоторые сцены выглядят фантастично.
Главная проблема современных движений - это мышление схемами вековой давности. Возможно, роман поможет кому-то по-новому взглянуть на реальность и продвинуться к нахождению той идеи, которая смогла бы сплотить вокруг себя активное русское большинство.
Роман расскажет о взрослении неуравновешенного человека, разрывающегося между жаждой справедливости и боязни понести за неё наказание. Большой массив событий, через которые проходит герой, не смотря на средний объем произведения, делают этот текст романом. Проза, чтобы остаться квинтэссенцией мысли эпохи, должна быть острой, резкой, бьющей в голову и цепляющей за сердце, но никогда полной словесной бюрократии и бесконечными мещанскими подробностями. Поэтому роман выдержан в полюбившемся мне стиле небольших едких главок. Повествование от первого лица сохранено для лучших ассоциативных связей. Написано моим привычным стилем, так что будьте готовы, как к сочным метафорам, неожиданным поворотам сюжета, героическому пафосу, но и отчаянному безумию, редкой обсценной лексике.


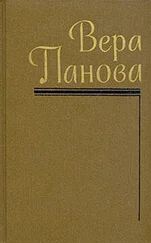


![М Вайсман - Пионер-партизан Володя Дубинин [Очерк]](/books/418178/m-vajsman-pioner-partizan-volodya-dubinin-ocherk-thumb.webp)