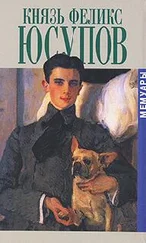— Ах, вот ты о чем! — недовольно сказал Вальд. — Ты опять толкаешь меня на отказ от Родины!
— Именно, — сказал Филипп, — но причины все время разные, заметь. Вначале это была просто мечта, потом типа возможность, потом… просто страх, если помнишь… потом опять мечта, но вполне конкретная…
— А сейчас?
— Наверно, безысходность. Тогда, в старину, была одного сорта безысходность, личная, что ли… а сейчас, как подумаешь обо всем… о детях… и обо всем окружающем… там… и здесь…
— Понятно.
— Жаль, что ты так и не побывал в Испании. Ведь безалаберный народ, просто смешно иногда. Ну ничуть не лучше наших. Такие же ленивые, неряшливые… бумажки швыряют где попало… собачки на тротуарах какают, и это в порядке вещей…
— Ну?
— Но почему же у них в итоге так хорошо? Так красиво, так по-настоящему грустно и весело? Жаль, ты не видел… Да у них каждый подъезд — произведение искусства. А у нас… Мистика какая-то.
— Ты забыл. Ты уже выдвигал версию.
— Наверно, забыл…
— А мне запомнилось. Ты сказал, что они слишком ленивы, чтоб разрушать. Поэтому столько старины и осталось. Затем — климат, туристы…
— Да, точно, — улыбнулся Филипп, — припоминаю. Все мы тогда были экономистами. Но ведь дело совсем в другом, верно?
— Естественно, — сказал Вальд. — Кстати, ты имел возможность понять это и до Испании.
— Вспомнил Аляску, да?
Вальд ухмыльнулся.
Конечно, вспомнил Аляску. Вот что их по-настоящему поразило в Америке. Это было их первым впечатлением — да так и осталось самым сильным за все время той не очень-то слабой, в целом, поездки.
Это он придумал, хозяйственный Вальд, что чем биться за билеты до Нью-Йорка, сами по себе достаточно дорогие, а потом и вовсе пересекать Америку буржуйской авиалинией (интересно и весело, но не чересчур ли накладно?), лучше бы лететь на восток: транссибирские рейсы единственной еще компании «Аэрофлот» тогда были, считай, дармовыми, а там — вполне любезный по цене и билетной доступности, тоже аэрофлотовский перелет до Сан-Франциско, конечного пункта назначения. И Фил, помнится, еще спорить пытался, не сразу признал Вальдову правоту.
Забавное было время! Старое в замешательстве приспустило вожжи, а новое только хорохорилось, его и не было по существу; все, кто раньше имел власть не пущать, на время подрастеряли ее и стали почти как люди. Еще не влезло в свои «шестисотые», не возникло как класс хамло с золотыми цепями на шеях, и таможенники нового призыва, уж не осененные крылом доселе всесильного ведомства, еще ощущали себя вспомогательной как бы службой, вели себя вежливо и даже, можно сказать, предупредительно. Или просто это был Хабаровск, а не Москва?
В любом случае, это было необычно. Гораздо обычнее вела себя там русскоязычная толпа — от нее, смешавшейся с немногочисленными иностранными туристами и вальяжными жуликами, от этой пестрой толпы номенклатурных ворюг, быстро перекрашивающихся функционеров, от амнистированных зэков и вчерашних завлабов, ставших неожиданно политическими боссами — от всех этих людей, трудно или подленько добившихся загранпоездки, от всех вместе и каждого в отдельности, так и несло неуверенностью и беспокойством: вдруг что на самой границе! вдруг задержат проверяющие! вдруг места не хватит в самолете! Конечно, все они соблюдали внешние приличия, пускали женщину с ребенком вперед, за локоток поддерживали, но зорко при этом секли, нет ли какой угрозы их путешествию, прятали бегающие глаза, и если бы вдруг таможенник сказал что-нибудь вроде «последних десять человек» — кто знает, что бы тут приключилось с этой женщиной и с ее ребенком тоже.
Зато когда и таможня и пограничник были уже позади, когда места в самолете были заняты и становилось ясно, что все в порядке и препятствия кончились, тут эти люди быстро и явно сбрасывали с себя напряженность, становились, кажется, по-настоящему доброжелательными, оглядывали попутчиков с искренним интересом, потому что начинался увлекательный и красивый кусочек их жизни — их, с этого момента цивилизованных членов мирового сообщества, — и невозможно было портить это новое, восхитительное ощущение достоинства и свободы страхом, хамством и завистью.
— Анкоридж, — произнес пилот красивое слово, и чужая земля появилась в окошке. Была зимняя ночь — огни, снег, продрогшая стекляшка маленького аэровокзала; в Хабаровске, при двадцати градусах холода, им сказали, что в Калифорнии лето, тепло, но чтобы как-то не замерзнуть до Калифорнии, они прихватили с собой демисезонные курточки, пригодные для легких перебежек. Слабая надежда, что в Анкоридже тоже лето (заграница все-таки!), не сбылась; минус двадцать пять Цельсия, сказал радиоголос, и Вальд поежился. Открыли выход. Повыше застегнув свои малопригодную курточку, Вальд форсировал присосавшуюся к аэровокзалу гофрированную кишку, ступил на что-то мягкое, вдохнул воздух другого континента, покрутил в стороны головой — и заплакал.
Читать дальше