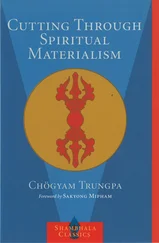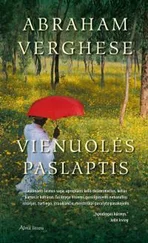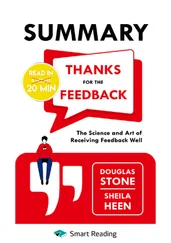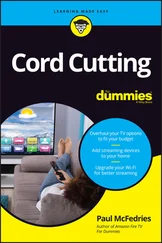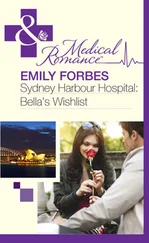На обратном пути Гхош вручил мне сверток:
– Подарок.
В свертке оказался новенький стетоскоп.
– Зачем тебе ждать, пока Фаринаки раскачается. С видами пульса ты уже знаком, пора начинать слушать тоны сердца.
Я был тронут. Первый подарок, который вручили лично мне, а не нам вдвоем с Шивой.
Оглядываясь назад, могу сказать: когда Гхош позвал меня пощупать пульс Демисса, он меня спас. Мама моя умерла, отец вроде бы и не существовал, я все более отдалялся от Шивы с Хемой и винил в этом себя самого. Вручая мне стетоскоп, Гхош как бы говорил: Мэрион, будь самим собой. Все отлично. Он открыл передо мной мир, пусть не тайный, но сокровенный. Без проводника тут было не обойтись. Надо знать, что ты ищешь, но вместе с тем и как искать. Надо совершить над собой некоторое усилие. Но если в тебе теплится интерес к другим людям, к их благополучию, если ты вошел в эту дверь, происходит странная штука: свои собственные злоключения ты оставляешь у порога. И это быстро переходит в привычку.
Глава шестая. Школа страдания
Конец осени. Утро. Я, Шива и Генет направляемся в школу с портфелями в руках. Вижу: в гору по дороге навстречу нам из последних сил бегут мужчина и женщина, у мужчины на руках безжизненное тело ребенка. Они еле держатся на ногах, задыхаются, но пока ребенок с ними, им кажется, что он жив, значит, есть надежда.
Не медля ни секунды, Шива-Мэрион бросается им навстречу. Мы не обсуждали, что будем делать, некий высший разум решил все за нас, стоило нам увидеть, в каком отчаянии родители, и мы действуем слаженно, будто единый организм. Помню, у меня еще мелькнула мысль, как я соскучился по такому единообразию и какая радость снова стать Шива-Мэрионом. Даже когда я выхватил малыша у спотыкающегося измотанного отца и во весь дух понесся к приемному покою, рука Шивы у меня на спине придала мне дополнительное ускорение, а его ровный бег рядом наполнил уверенностью, что мне есть кому передать ношу, если выбьюсь из сил. Кожа ребенка холодила ладонь, высасывала из меня тепло, я понял, что значит определение «теплокровный».
Мы передали малыша в приемный покой и, задыхаясь, вышли во двор. Подоспели родители, мы открыли им дверь. Через несколько минут до нас донесся вопль ужаса, громкие голоса, затем раздались рыдания – язык, понятный всем.
Был в Миссии еще один звук, насыщавший мою кровь адреналином, – торопливый пронзительный скрип главных ворот, открываемых Гебре. Этот звук всегда означал: стряслось нечто экстренное.
Детство в Миссии дало нам уроки гибкости, силы духа и хрупкости жизни. Я лучше других детей знал, сколь немногое отделяет мир здоровья от мира болезни, живую плоть от мертвой, твердую почву от предательской трясины.
О страдании я узнал нечто такое, чего мне не преподал Гхош. Прежде всего, у страдания белые одежды и пошиты они из хлопка. Ткань эта может быть тонкой (шама, нетта-ла) или толстой и тяжелой, будто одеяло (и тогда это габби), главное, чтобы данный предмет одежды держал голову в тепле и закрывал рот от ветра и солнца, ибо они несут с собой митч, биррд и прочие дурные испарения. Даже министр в жилетке и при карманных часах набрасывает на себя нетта-лу, заталкивает в нос лист эвкалипта, принимает дозу коссо от ленточного червя и спешит на осмотр.
День за днем толпы в белых одеждах перехлестывали через наш холм, борясь с силой притяжения. Те, кого одолевала одышка, а также калеки и увечные на полпути останавливались и возводили глаза к небу, где над верхушками росших вдоль дороги эвкалиптов парили африканские ястребы.
Покорив подъем, пациенты направлялись в регистрацию для получения карты. Здесь решения принимал Адам, величайший в мире одноглазый клиницист, по определению Гхоша.
– Одышка, говорите? – спрашивал Адам у больного. – Как же это вы поднялись на холм и получаете карту за номером четыре на сегодня?
В книге Адама номер меньше десяти на карте амбулаторного больного обозначал ипохондрический синдром с не меньшей точностью, чем осмотр Гхоша.
Со своего наблюдательного пункта я как-то увидел в потоке величавую женщину из Эритреи с тяжелой корзиной в руках. В корзине находилось что-то большое, разросшееся, красное и мокрое. То была ее грудь. Раковая опухоль на ней приняла такие чудовищные размеры, что перемещаться иначе оказалось невозможно.
Такое я зарисовывал в блокнот. Мои наброски были не чета тем фотографически точным рисунками, что делал Шива, но свою роль выполняли. Посмотрю на рисунок – и сразу все вспомню.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу