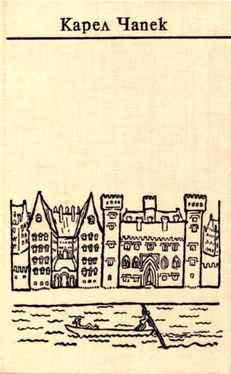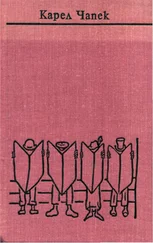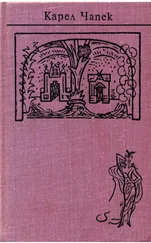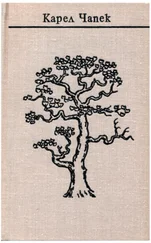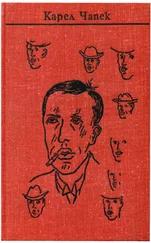Проблема нищеты — это проблема нищих детей. Никакой самой щедрой милостыней нельзя изменить жизнь тех, кто погряз в безысходной бедности. Недостаточно помогать со дня на день. Мы не призываем к тому, чтобы проявлять к нищете милосердие; нищету надо немилосердно уничтожать; истреблять ее, как истребляют инфекцию. Нельзя помешать человеку впасть в нищету, но можно помешать ему расти в ней и для нее. Это можно сделать при помощи воспитания. Не школой, а переменой всей жизненной обстановки. У нас есть учреждения для золотушных, отлично. Но нищета страшней и опасней золотухи. Я думаю, я уверен: придет время, человеческое общество будет устраивать школы-санатории для детей, рожденных в нищете. Уверен, что это возможно уже сейчас... Да что там: возможно! По-моему, это необходимо. Ведь эта самая нищета не приятней и не легче сиротства или английской болезни! Я, конечно, понимаю: тут проблема расходов и всякое такое. Простите, но я не могу говорить об этой проблеме; я видел больше, чем в состоянии описать, и меня слишком страшит проблема нищеты, чтобы я мог думать о проблеме расходов. Я не знаю, на самом деле не знаю, как ее разрешить, и прошу вас всех помочь мне обдумать эту сторону дела. Знаю только одно — и это, конечно, не ново, по мне хочется об этом кричать во всеуслышание: что совесть не позволяет мириться с преступлением, за которое мы все в ответе, — с нищетой человеческих детенышей. Господи, говорят, что человечество — властелин суши, моря, воздуха и всего на свете; оно обнаружило бы печальное бессилие, если бы не нашло способов устранить нищету. Вы утверждаете, что не в наших возможностях исправить это ужасное положение? Увы, как же человечество ничтожно, если оно не в состоянии разрешать столь насущные, неотложные задачи!
[1921]
На первом плане сады и дети. И те и другие бешено растут, потому они — воплощение прогресса. Был слабенький, голый прутик, и вот уже деревцо. Был беспомощный младенец — и вот уже школьница, переживающая свои серьезные проблемы, или длинноногий парнишка, у которого ломается голос. Каждый год где-нибудь по соседству слышится плач новорожденного, но проходит какое-то время, и он уже зовет: «Мама, поди сюда», — и бежит с ранцем в школу. Тут сплошные перемены. Не нужно быть стариком, который все помнит, чтобы заметить, — дети теперь не те, что были: они начинают раньше, а главное — больше говорить, не так запуганы воспитанием, стали независимее, развязнее и хитрее; здесь прогресс налицо.
План второй — шоссе. Раньше на окраину вела проселочная дорога, по которой на рассвете проезжала телега молочника, запряженная белой кобылой. А сегодня тут мчатся автомобиль за автомобилем, грузовики с кирпичами, автофургоны; молодая, сильная, шумная дорога не дрогнет — она звенит и завивает столбиками пыль. Это, собственно, самая главная перемена, она проникла всюду, всюду вторглась, наполнив и округу жизнерадостным, грубым грохотом.
План третий: воинский плац. Здесь тоже все другое, потому что на него мы смотрим совсем иначе, нежели двадцать лет назад. Но и выглядит он не так, как прежде. Вольные движения голых по пояс солдат — раньше такого не бывало. Раньше здесь с утра до ночи маршировали большие подразделения, напра-во, нале-во, крик команды, ровные шеренги, а теперь — небольшие группки, каждая рота учится чему-то другому, это не так впечатляет, но зато кажется более осмысленным.
План четвертый: сортировочная станция. Еще лет пять назад здесь целыми днями пыхтели маневровые паровозы, толкая небольшие составы; по ночам станция искрилась красными огнями, приятно звякали буфера, и по их звуку можно было предсказывать погоду. Потом все затихло, замерло, а вид мертвой станции так же ужасен, как вид мертвого города.
Только бы не сглазить, но, видимо, положение начинает улучшаться: по ночам буфера еще не звякают, но днем все оживает, паровозы размахивают султанами дыма и тянут сцепленные вагоны, в этом кусочке жизни мир кажется лучше, и человек, поглядев в окошко, скажет: наверное, и другое можно было бы сдвинуть с места, если бы люди взялись за дело так, как тут; железнодорожники, — покажите всем пример, путь открыт.
План пятый: кладбище — оно не изменилось. И поселок временных домишек — сбитые из досок и листов жести закутки для семьи, бедность, почти как в цыганском таборе: здесь тоже без перемен, разве что за десять прошедших лет поселок стал больше. Деревья выросли, и дети возмужали; шоссе наполнило округу своим все возрастающим движением, до самого горизонта тянутся новые кварталы, только этот остров нищеты не меняется, такое впечатление, будто никто об этом и не заботится.
Читать дальше