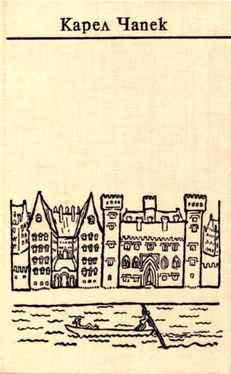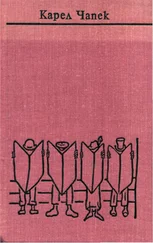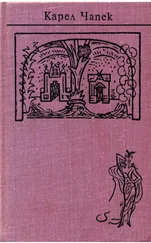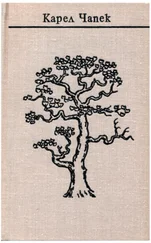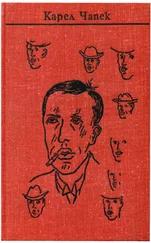Может показаться, что я мало говорю об античных памятниках. Я мог бы, конечно, написать о них больше: в путеводителе указано все — и к какому веку они относятся, и толщина колонн, и их количество. Но душа моя, видимо, слишком неисторична; лучшие мои впечатления об античности относятся скорее к явлениям природы — например, золотой закат в золотистых джирджентских храмах, или белый полуденный зной в греческом амфитеатре, по сиденьям которого бегают прелестные зеленые ящерицы; или одинокий благородный лавр у поверженной колонны, огромный черный уж во дворе дома трагического поэта в Помпее [53], запах мяты и бегонии — ах, самое прекрасное, самое безграничное в мире — это не вещи, а минуты, мгновения, неуловимые секунды.
А потом — Таормина, земной рай над шумящим морем, остров благоуханий и цветов между скалами, огоньки у моря, багровое зарево над Этной... Нет, теперь думай о родине; и пусть все здесь будет стократ прекраснее — думай о родине, о стране текучих вод и шумящих лесов, о стране скромного и интимного очарования.
Ибо не можешь ты заблудиться, если обратишься лицом к родине.
Всегда говорят: если вы куда-нибудь собираетесь поехать, выучите тамошний язык, чтобы лучше проникнуть в душу народа, и всякое такое. Что ж, вы действительно проникнете в таком случае в душу народа, но примерно в такой же степени, как если бы вы отправились в Новый Быджов [54], вы поймете все глупости, которые люди говорят друг другу, и будете задавать им ненужные вопросы, например, — как называется вон та гора или на сколько минут опаздывает поезд.
Я странствую по земле Италии, не обремененный подобными интересами; моих способностей и моего времени хватило только на то, чтобы выучить по-итальянски числительные (да и то самые простые); однако и это знание временами доставляет мне досаду, ибо разрушает сладостное чувство: предаться воле божьей. Конечно, в международных отелях вы договоритесь обо всем по-французски; но существуют места, интереснее всех отелей мира, вместе взятых, и там уже — конец космополитическому Вавилону, там ты уже не можешь ни расспрашивать, ни объясняться, ни требовать чего-либо от кого бы то ни было; здесь ты уже только надеешься, что люди накормят и напоят тебя, постелят тебе на ночь и куда-нибудь довезут — как и куда, это уж полностью в их власти, не в твоей; но ты вверяешь им себя, подобно бессловесной и беспомощной твари, неспособной самостоятельно выбирать, защищаться и браниться. И что же — они дают тебе есть и пить, заботятся о тебе, укладывают на покой; ты же принимаешь все это с тысячекратно большей благодарностью, чем если бы отдавал им властные и пространные распоряжения.
Ты странствуешь с простотой святого Франциска. А так как языка ты не знаешь, то ничего не можешь требовать от людей. Да, требовать как можно меньше — вот подлинное смирение и покорность жизни; не желать ничего, кроме еды и ложа, принимать все, что тебе дают, и верить, что все относятся к тебе хорошо, — вот скромная беззаботность, порождающая в тебе целый ряд добродетелей. Ты скромен и благодарен, нетребователен и тих, доволен и доверчив; куда девалась вся твоя надменность, кичливость, нетерпение, сложная, эгоистичная разборчивость! Ты во власти других людей, а следовательно — в руцех божьих. Ты не можешь спросить — идет ли этот поезд до Кальдаро, или только до Ксирби, или до самой Бикокки, потому что не знаешь, как это сказать. И ты садишься, полагаясь на то, что «они» знают все это лучше тебя и привезут тебя в края прекрасные и нужные тебе. Ты не выбираешь ни еды, ни ложа: принимаешь, что дают, — и вот, оказывается, тебе дают лучшее из того, что имеют. Ты хочешь заплатить; они называют какую-то цифру, и ты не понял, сказали тебе «лира пятьдесят» или «пятьдесят лир»; тогда ты отдаешь им все свои деньги, чтобы они сами выбрали, что считают нужным. Они очень хорошие: выбирают себе только полторы лиры. Кроме одного извозчика в Посилипи, меня никто ни разу не обманул; но в тот единственный раз вокруг моего мошенника собрались местные жители из Баньоли и, по-видимому, набросились на него с упреками, видя, что сам я совершенно не в состоянии его обругать.
Иногда возникают сложные ситуации: например, где-нибудь в Салерно хочешь узнать, есть ли сегодня пароход. Официант кафе не мог разобрать моего вопроса; тогда он созвал народ с улицы, народ расселся вокруг меня, заказал cafe nero [55]и принялся обсуждать — чего я могу хотеть. Я сказал им, что хочу в Неаполь; они закивали головами, посоветовались, потом все скопом отвели меня к поезду, где мне пришлось на память раздать им мои визитные карточки. Иной раз мне покровительствовали, словно маленькому мальчику, — как это сделала одна старушка в Сиене, — и разговаривали со мной, будто с ребенком, в неопределенных формах глагола, с пояснительными жестами. Мое отношение к ним очень хорошее: я никогда им не возражаю, а они мне.
Читать дальше