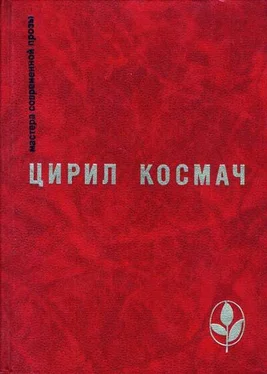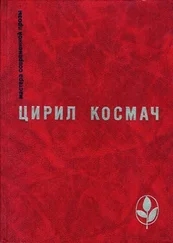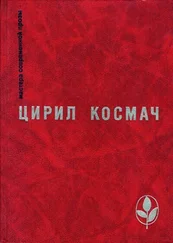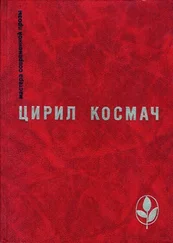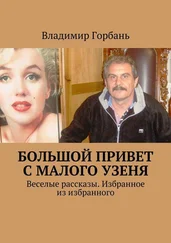— Давай есть! — позвал сына отец и обтер об рубашку Почернелую железную ложку.
Тот рассеянно зачерпнул ложкой, следя взглядом за Кадеткой, которая, приподняв платьице, шлепала по мелководью.
«Вот она настоящая сирота, — подумал он. — Сирота от рождения. Мать лежит на кладбище в Рочах, отец — где-то в Моравии, а у нас в Обрекаровой дубраве только его пустая могила. И там каждый год зацветают первые ландыши».
С берега донеслось пронзительное пение Кадетки. Она взобралась на старую раскидистую ветлу, как раз на ту самую, которая восемь лет назад своими узловатыми корнями ухватила ее мать, бросившуюся в воду.
— Спилить бы эту ветлу, — задумчиво сказал малый.
— И надо бы, да вроде жалко, — ответил отец. — У нее густые корни, и они удерживают землю, не дают воде размывать ее.
— Обычно такие деревья спиливают, — стоял на своем малый. — На Иловице ведь спилили грушу.
— Спилили. Только груша-то росла перед домом. И Лойзе именно на ней повесился… А потом, если мы эту ветлу и спилим, память все равно останется. Ее не будет, а мы все равно будем говорить: «Тут росла та ветла»… Такое забыть не просто. Обрекар может хоть половину своего пригорка срыть, а все равно мы будем знать, что на нем застрелился тот бедняга кадет.
Малый поглядел на крутые склоны Вранека, где утреннее солнце заливало светло-серые скалы и редкие зеленые пятна Обрекаровых лугов, поросших кустами. Там было очень красиво.
«Если благополучно сдам экзамены, в следующее воскресенье можно будет пойти за ландышами в Обрекарову дубраву. И Кадетку возьму с собой», — отрадно подумалось малому. Но в тот же миг он вспомнил, что на то воскресенье назначено собрание словенских гимназистов на Баньской поляне, и нахмурился.
— Похоже, она будет хорошо петь, когда вырастет, — прервал его мысли голос отца, показывающего ложкой в сторону Кадетки. — Голос у нее, должно быть, от отца — Войнацевым-то медведь на ухо наступил.
Малый кивнул и поглядел на Кадетку. Она беззаботно раскачивалась на длинной ветке серо-зеленой ветлы. В своем красном платьице она была точь-в-точь как яркий цветок на старом кактусе. Она раскачивалась и пробовала силу своего ломкого, еще неразвитого, неотшлифованного голоса.
«Кадетка?.. Кадетка?.. А как же была ее настоящее имя?» — нетерпеливо спрашивал я себя, чтобы этим вопросом помочь себе вернуться из прошлого в настоящее. В чулане у окошка снова стоял я, тридцатипятилетний мужчина. Семнадцатилетний парень и отец исчезли, а девочка в красном платьице, качающаяся на серой ветви ветлы, стояла перед моими глазами как живая. Я прижался лицом к оконной решетке и широко раскрытыми глазами вгляделся в ночь, ища ту ветлу, которую в последний раз видел пятнадцать лет назад. Ее не было. Я на глаз прикинул расстояние и убедился, что она росла там, где сейчас течет река, где-то посреди теперешнего русла. «Смотри-ка, — подумал я, — Идрийца подрылась под нее и унесла. Теперь река бежит по той земле, которую дерево когда-то защищало своими мощными узловатыми корнями. От старой ветлы ничего не осталось, а память о ней все тут…»
Моим умом уже овладела старая слабость — ему хотелось пофилософствовать обо всех этих вещах. Но пофилософствовать не удалось, воспоминания молодости оказались сильнее. И к тому же совесть подсказывала, что я нарочно с помощью Кадетки перебрался из прошлого в настоящее, боясь, что передо мной развернется картина того давнего воскресенья после экзаменов.
И она развернулась.
Нет, в это воскресенье я не пошел ни в Обрекарову дубраву, куда собирался с Кадеткой за ландышами, ни на тайное собрание словенских гимназистов на Баньской поляне, потому что мир рухнул: умерла мама.
Я проснулся довольно рано и все-таки позже, чем в другие дни. Собрался было вскочить с постели, испугавшись, что проспал. Я приподнялся на локтях, удивляясь, почему отец не будит меня горячим кофе, как обычно, и тут же вспомнил, что вчера был последний день экзаменов, что сегодня воскресенье и поэтому я могу со спокойной совестью соснуть еще. При этой мысли я почувствовал, как измучено и утомлено мое тело: оно до того обессилело, что само опустилось на постель. Да и откуда быть силам? Я же девять дней подряд вставал в пять утра и пешком отправлялся в Толмин, а днем снова пешком возвращался, то есть каждый день делал почти двадцать пять километров, а за девять дней прошел их больше двухсот. Усталости я не ощущал. Тело утратило чувствительность и было неутомимо, точно знало, что должно выдержать. И выдержало. И только вчера вечером, точнее, сейчас, оно объявило, что больше не может.
Читать дальше