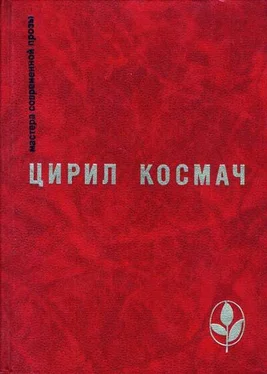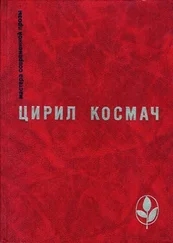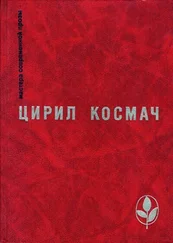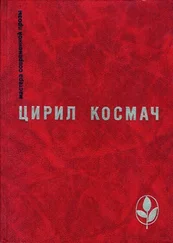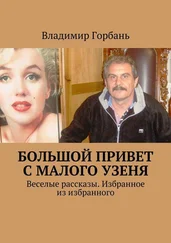— Я тоже с большей охотой читаю рассказы, чем стихи, — сказал мальчик, чтобы что-то сказать.
Отец задумался. Они дошли до развилки, от которой начиналась дорога в Полюбинь, и стали спускаться к Толминке. На мосту отец откашлялся, повернулся к сыну и почти робко, доверительно спросил:
— Ты помнишь те бумаги, которые мы с тобой в прошлом году нашли под балкой, когда чинили крышу?
— А, «Корабль без кормчего» [94] Название повести, написанной отцом писателя.
,— сказал мальчик, он хорошо помнил, как вытянул из-за балки пачку пожелтевшей бумаги, исписанной почерком, показавшимся ему знакомым.
— Ага, — кивнул отец, — «Корабль без кормчего», такое было название… Видишь ли, это я написал… Когда?.. Да почти тридцать лет назад… Если бы про это узнали, надо мной смеялись бы, как смеются над Млинаревым Цене…
— Поэтому ты спрятал их под крышей? — спросил мальчик.
— Пожалуй…
— А почему ты вырвал их у меня из рук и бросил в печку?
— Почему?.. Кто его знает?.. Впрочем, я рассказал тебе об этом только для того, чтобы ты знал, — сказал отец и быстрее зашагал по мосту.
У мальчика было горько на сердце, как будто отец признался в проступке, умалявшем его достоинство отца, достоинство серьезного и умного человека. Он почувствовал сожаление и одновременно какое-то иное уважение, большее, чем то, которое испытывал к нему прежде. Он наблюдал за ним, смотрел, как тот шел, как говорил, помогая себе руками, как выбирал, а потом взвешивал слова, как заказал две тарелки супа и две булки, как ел и как вытирал усы. Раньше отец был просто близким, таким домашним и таким понятным, а сейчас вроде бы отдалился, и сын тайком взглядывал на него или смотрел не отрываясь, словно никогда прежде не видел… Отец стал другим. Раньше отец был только отцом, сейчас это был не только отец, а человек со своей жизнью. И что же это за человек, его отец? Хороший человек. А какой была его жизнь? Трудной и богатой событиями. И вдруг он почувствовал, что любит отца так, как никогда прежде. И не только любит. Гордится им… Решительной поступью шагал он с отцом к школе. И когда на ступеньках тот еще раз напомнил, чтобы не был он угрюмым и разговаривал с директором спокойно и заинтересованно, мальчик искренне пообещал: он будет приветливым и внимательным и постарается хорошо учиться.
ТАНТАДРУЙ
© Перевод А. Романенко
Поздней ясной и чуть ветреной ночью я возвращался из Пирана. Медленно взбирался я в гору по узкой и крутой улочке, бормоча припев застрявшей в ушах чужой песенки, частенько останавливаясь и упоенно наблюдая и слушая, как осенний ветер играл с лунной ночью. Он играл с нею, точно с вуалью: шелком шуршало все вокруг меня и надо мною, бледно-золотой свет мягко переливался на пологих крышах и игриво покачивался на взволнованном море.
У меня на сердце тоже было ветрено, а в душе — непривычно светло. Вновь пришли те золотые часы, которые насквозь пронизывают меня светом и музыкой и звучат в душе так же радостно, как погожий летний день, замирая посреди зеленой долины. Было слишком хорошо, поэтому я был убежден, что вскоре все затянет неведомая и непонятная тоска, смешанная с горько-сладкой грустью, которая начнет побуждать меня к писанию. И все-таки я был так счастлив, что всем и каждому хотел поведать, как хорошо жить. Но поскольку мне не встречалось ни одной живой души, то я рассказывал об этом мертвым; как раз в эту минуту я проходил мимо кладбища и смотрел на посеребренную надпись, светлевшую над закрытыми воротами.
«Resurrecturis…» [95] Да воскреснут… (лат.).
— прочитал я, а вслух произнес:
— Жить хорошо!
И смотри-ка, голос мой показался мне самому каким-то странным, глухим и робким, а еще более странно отдавались мои шаги.
— Жить хорошо! — громче повторил я. И тогда мне почудилось, будто там, за черными кладбищенскими кипарисами, легонько перекатывается и исчезает между белых камней эхо моего голоса, приплясывает робкой птицей и, подобно птице, тихо посмеивается надо мною: «Жить-жить-жить!»
Было чуть-чуть жутко, но в то же время так заманчиво, что, вероятнее всего, я последовал бы за своим эхом, если б ворота не были заперты. А коль скоро они оказались заперты, я проворнее стал подниматься в гору по каменистой дороге. Шаги мои звучали теперь дробно, словно за мной поспешал по меньшей мере десяток душ. Взгляд мой невольно упал на широкую ленту ровного шоссе. Оно было светлым и пустынным вплоть до самого входа на кладбище, над которым, словно влажный, полный печальной задумчивости глаз, светилась посеребренная надпись.
Читать дальше