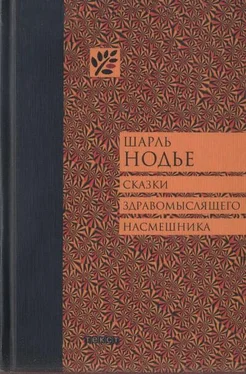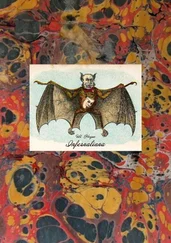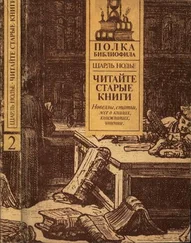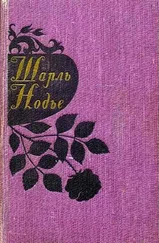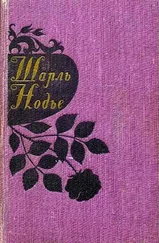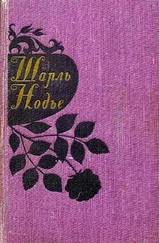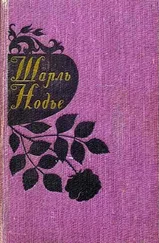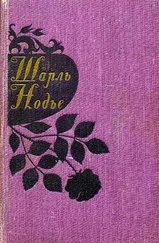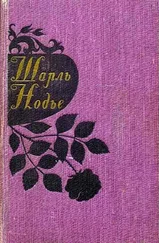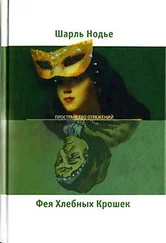Около шести с половиной сантиметров.
Возможно, ироническая отсылка к сказке про Аладдина и волшебную лампу. Нодье хорошо знал и очень любил сказки «Тысячи и одной ночи»; он написал предисловие к новому (1822–1825) изданию их французского перевода, сделанного в начале XVIII века Антуаном Галланом.
Сравнение волшебного эликсира жизни и познания с пуншем — ироническая отсылка к быту гуляк-студентов, среди которых этот напиток был особенно популярен (ср. описание «оргии» в новелле Теофиля Готье «Пуншевая чаша», опубликованной в сборнике «Юная Франция», 1833).
Поскольку зороастрийцы почитали стихию огня, их называли огнепоклонниками; именно поэтому воскрешенный Зороастр у Нодье говорит, что огонь — его стихия; вообще, вся финальная сцена «Зеротоктро-Шаха» представляет собой пародийную парафразу легенд о Зороастре-Заратустре, который получил мудрость благодаря обрушившемуся с небес великому пламени. Об интересе к Востоку, который пародирует здесь Нодье. Один из возможных источников эпизода с эффектным явлением Зороастра у Нодье — очерк его любимого писателя Сирано де Бержерака «Письмо в защиту колдунов» (1654), где всесильный чернокнижник и колдун Агриппа Неттесгеймский объявляет повествователю, что в него посредством метемпсихоза вселилась душа «ученого Зороастра, принца бактрийцев» (см.; Les Œuvres de М. Cyrano de Bergerac. Amsterdam, 1709. T. 1. P. 53). Напомню, что Нодье сделал больше чем кто бы то ни было для «воскрешения» Сирано де Бержерака в XIX веке; «новая жизнь» Сирано как писателя и как легендарной фигуры началась с посвященного ему очерка Нодье, опубликованного в 1831 году в «Revue de Paris»; впрочем, тему огромного носа Сирано, впоследствии использованную Ростаном, первым в XIX веке подробно разработал не Нодье, а Теофиль Готье в очерке 1834 года; оба текста в русском переводе М. Яснова см. в кн.: Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и Империи Луны. СПб., 2002.
В журнальной публикации вместо рассказчика (conteur) стояло «журналист», что более явно указывало на «рецензионный» характер текста.
Библиограф Жозеф-Мари Керар (1797–1865) в шестом томе своего справочного издания «Литературная Франция» (1834) в статье, посвященной Нодье, критиковал писателя за его симпатии к «чудовищной» романтической литературе, а также за многочисленные случаи, когда Нодье противоречил самому себе.
О совершенствовании рода человеческого и отношении Нодье к этой теории см. преамбулу к «Сумабезбродию». Об отношении Нодье к научным номенклатурам.
Намек на французского путешественника Жана-Батиста Дувиля.
Эльзевиры — голландский издательский дом XVII века; Дидо — династия французских печатников и книгопродавцев XVIII — первой половины XIX века. Нодье был страстным собирателем книг, отпечатанных Эльзевирами, и наделил этой страстью заглавного героя рассказа «Библиоман», который определял достоинства всех книг с помощью специальной линейки с бесконечно малыми делениями — «эльзевириометра» (Нодье Ш. Читайте старые книги. T. 1. С. 44).
На титульном листе брошюры Дельмота место ее выхода было обозначено как «Миссисипи». Именно поэтому Нодье называет ее произведением «искусства Нового Света».
Намек на роскошную бумагу, на которой была отпечатана брошюра Дельмота (настоящее издание для библиофилов): два экземпляра на золотисто-розовом перкалине, два на тонком пергаменте, один на белом картоне. Ниже Нодье продолжает эту тему в еще более утрированной форме и пишет об экземпляре «Путешествия», напечатанном на коже удода.
Мишель Берр (1780–1843) — первый во Франции адвокат еврейского происхождения, публицист и историк немецкой литературы; его переписка с Нодье не сохранилась.
Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) первым расшифровал египетские иероглифы.
Начиная с этой фразы Нодье пересказывает, сокращая, дополняя и творчески переделывая, текст Дельмота. Название корвета (в оригинале «La Calembredaine»), пародия на модную морскую терминологию, обильно присутствующую в романах Эжена Сю и Фенимора Купера, а здесь нарочно употребляемую невпопад, сухая мадера и обсуждение цвета канарейки — все это восходит к Дельмоту.
Название этого мыса на северо-западной оконечности Иберийского полуострова в переводе с латыни означает «конец земли».
Читать дальше