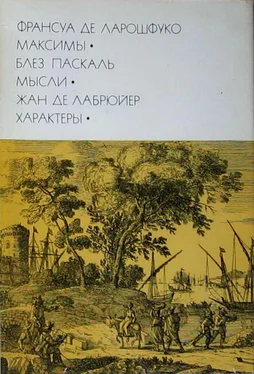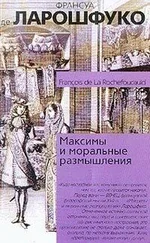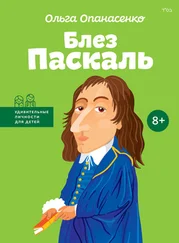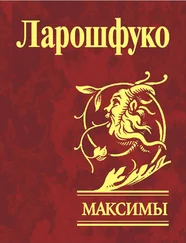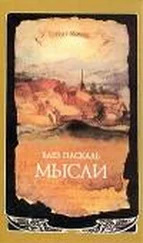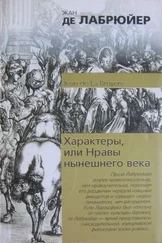С гибелью фронды и окончательной победой абсолютизма исчезала реальная жизненная почва для идеала героической доблести; сами события фронды обнаружили его иллюзорность. Ощущением краха героического идеала в его гражданско-государственной и в его рыцарско-галантной форме проникнуты все значительные литературные произведения 60-х годов XVII века: трагедии Расина, басни Лафонтена, комедии Мольера (особенно «Дон-Жуан» и «Мизантроп»), «Мысли» Паскаля; это важнейшая тема и в «Максимах» Ларошфуко.
Эпиграфом к «Максимам», выражающим главную идею книги, поставлены слова: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки». Не вдаваясь пока в смысл этой сентенции, постараемся ответить на вопрос: что же автор считает добродетелью, какое содержание он вкладывает в это понятие? Если под этим углом зрения прочитать «Максимы», то мы увидим, что речь идет именно о героических идеалах первой половины века. «Добродетели» — это жажда славы, бескорыстие, великодушие, стойкость, храбрость, презрение к смерти, чистая, верная рыцарская любовь. Но, как явствует уже из эпиграфа, каждая из этих названных добродетелей — только маска противоположного порока. Эта мысль многообразно варьируется в книге: «У большинства людей любовь к справедливости — это просто боязнь подвергнуться несправедливости». «Люди делают добро часто для того, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло», и т. д., и т. д. По мысли Ларошфуко, и у добродетелей и у пороков должна быть некая единая основа, ее и пытается отыскать писатель. Добродетель предполагает способность творить свою судьбу, следовать велениям разума, ставить общие интересы выше собственных, совершать бескорыстные поступки; соответственно источником пороков является себялюбие, власть страстей над разумом, душевная леность. С этой точки зрения эпиграф прочитывается так: человек не способен властвовать над самим собой, руководствоваться в своем поведении требованиями разума, он раб своих страстей, игрушка в руках судьбы и обстоятельств. Единственной основой всех его действий является себялюбие — «любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо». По мнению автора, «себялюбие питает самые разные склонности», толкает «к завоеванию славы, богатства, наслаждению». «Оно существует у людей любого достатка и положения, живет повсюду, питается всем и ничем, может применяться к изобилию, к лишениям, переходит даже в стан людей, с ним сражающихся», «погибая в одном обличии, оно воскресает в другом»; «себялюбие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли, даже роль бескорыстия».
В стоический идеал Ларошфуко не верит. В первом издании его «Максим» был выразительный фронтиспис: Амур насмешливо взирает на бюст, с которого он сорвал маску. Под Амуром подпись: «Любовь к истине», под бюстом — имя римского философа-стоика Сенеки. Идея фронтисписа развивается в «Максимах»: «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией». «Невозмутимость мудрецов — всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца» и т. д. И как итог — знаменитая сто вторая максима: «Ум всегда в дураках у сердца».
Уже говорилось о том, что каждый афоризм обладает внутренней законченностью, живет сам по себе, вне потока речи. И все же это верно лишь отчасти. Между отдельными афоризмами Ларошфуко есть внутренние переклички. Афоризмы существуют в особом, правда, достаточно свободном, в достаточно аморфном контексте, примерно так же, как живут отдельные стихи в цикле, вне которого они не могут быть поняты до конца. С этой точки зрения мы попытаемся проанализировать сто вторую максиму.
Как и большинство других, этот афоризм строится на сочетании противоположных понятий (ум и сердце), но каждое из этих понятий у Ларошфуко многозначно [5] Эта многозначность придает афоризмам Ларошфуко глубину и сложность, благодаря ей «Максимы» избежали обычной участи многих парадоксов — со временем устаревать, становиться тривиальными.
. Ум — начало мысли, сердце — источник страстей; страсти господствуют над нашим разумом и волей — таков первый смысл этой максимы. Она перекликается с сорок второй («У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка») и с сорок третьей («Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой»). Но ум в данном случае имеет значение и духовной силы, а сердце — телесного органа. Сорок четвертая максима в первой редакции звучала так: «Слабость духа — неправильное выражение, в действительности — это слабость сердца». В издании 1664 года слово «сердце» было заменено словом «темперамент», а в окончательной редакции словами «хорошее или плохое состояние органов тела». Ларошфуко хочет сказать: плоть господствует над духом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу